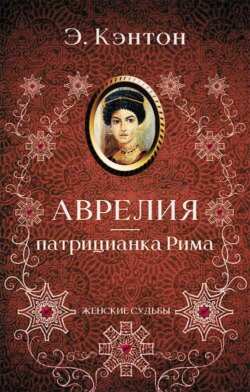Читать книгу Аврелия – патрицианка Рима - Э. Кэнтон - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Доносчик
Глава 7. Свет во тьме
ОглавлениеПриближался день, когда Павел должен был предстать перед кесарем по поводу поданной им апелляции. При императоре Нероне судопроизводство не отличалось особой сложностью, и апостол уже придумал, как снять с себя обвинение, которое возвели на него соплеменники; надо заметить, что и Нерон не очень понимал его суть. Христианство Нерон воспринимал как секту – ответвление от официальной религии евреев. Так стоило ли этим озадачиваться? Однако личность апостола Павла, – по слухам, человека необыкновенного, способного творить чудеса, – заинтересовала кесаря. Неужели они с Петром и вправду исцеляют больных, заставляют ходить хромых, возвращают слух глухим, а зрение – слепым и воскрешают умерших?
По случаю праздника Нерон устраивал для народа большие игры в амфитеатре. На этот раз зрелище обещало стать особенно захватывающим. Один человек, волхв Симон, соперничавший с апостолами в творении чудес, собирался подняться на крыльях до облаков. О нем говорили, что он способен оживлять статуи, превращать камни в хлеб, летать по воздуху и вызывать тени умерших. «Как такое возможно? – удивлялся Нерон. – Впрочем, какая разница? Главное – чтобы игры прошли с блеском. Пусть все трое: апостолы Петр и Павел, а также волхв Симон – взойдут на помост и состязаются в своем сверхъестественном могуществе. Публика будет довольна, лишь бы евреи развлекали ее».
Но чудеса не творятся ради удовлетворения праздного любопытства. Как известно, Иисус Христос отказался чудодействовать по просьбе неверующих. Поэтому, когда Павлу передали пожелание Нерона, чтобы он, апостол Христа, совершил при огромном стечении публики нечто сверхъестественное, он отказался и предоставил это Симону.
На другой день, когда игры начались, Симон гордо вошел в амфитеатр в окружении свиты почитателей. Его сопровождала Селена, красавица-куртизанка из Тира, которую он называл Еленой. Многие верили, что она – воскрешенная им жена царя Менелая.
Симон пользовался в Риме огромным влиянием. Сенат унизился до того, что разрешил воздвигнуть на одном из островков Тибра стелу с надписью: «Симону, святому богу»[6]. Шумные рукоплескания раздались по всему амфитеатру, когда на сцене появился человек, готовый взлететь до облаков.
Присутствующие на играх апостолы Петр и Павел молили Бога, чтобы Он не допустил лжи восторжествовать над истиной и чтобы осквернитель святыни и безбожник не предстал перед народом с силой и могуществом, равными силе посланников Божьих.
Император подал знак – Симон поднялся в воздух, якобы несколько мгновений продержался так и вдруг стремглав полетел на землю, пораженный десницей Божьей. Когда его подняли, он еле шевелился, повредил себе руки и ноги и был весь в крови. Народ, за минуту перед тем приветствовавший его аплодисментами, обругал и освистал обманщика. Подавленный стыдом и отчаянием Симон не смог пережить свой позор. Из ложи, куда его перенесли, он бросился вниз и разбился насмерть.
Нерон остался не доволен такой печальной развязкой. Симон был принят ко двору и пользовался благосклонностью императора. Весьма вероятно, что вследствие данного инцидента он затаил в себе желание отомстить обоим апостолам, хотя внешне не проявлял неудовольствия.
Петр и Павел вернулись к своей апостольской миссии. Они по-прежнему жили плодами своих трудов, окруженные заботами женщин, демонстрировавших удивительные примеры благотворительности, христианского нестяжания, евангельской чистоты и других добродетелей.
Некоторые из этих святых жен никогда не покидали Матерь Божью. Вместе со святым апостолом Иоанном они сопровождали Ее в Эфес, где и оставались с Нею до блаженного Ее Успения. После этого печального события они тотчас же отправились в Рим, чтобы соединиться с апостолами и помогать им в распространении евангельского учения.
Апостольская проповедь не оставалась без успеха. Число верующих ежедневно множилось новыми последователями самого разного общественного положения и возраста – как мужчинами, так и женщинами. Столь быстрое распространение христианства начинало сильно тревожить римских язычников, хотя лишь немногие из них понимали, что христианское вероучение повлечет за собой полное обновление Древнего мира и до основания разрушит его прежние устои.
Проклятым и всеми презираемым сектантам – последователям Христа, явившимся нарушить многовековое спокойствие, в котором почивал Рим, – владыка и повелитель вселенной Нерон объявил беспощадную войну. Ее поддержали философы и писатели, обвинявшие христиан во всех смертных грехах и преступлениях.
Основоположник Церкви Иисус Христос в царствование Тиберия по повелению Понтия Пилата был предан позорной казни.
Не станем перечислять все те наветы, которые возводили на первых христиан: достаточно сказать, что эти клеветнические происки дали Нерону возможность снять с себя обвинения в Великом пожаре Рима в 64 году.
Как известно, не кто иной, как он сам был причиной того ужасного пожара, который в продолжение шести дней свирепствовал в городе с такой ужасной силой, что из четырнадцати кварталов целыми и невредимыми остались три.
Однако Нерон, театрально воспевавший при свете пламени и в одеждах комедианта падение Трои, не постеснялся взвалить всю тяжесть обвинения в поджогах на ни в чем не повинных и беззащитных христиан – по этой причине их накрыла первая волна гонений.
По словам Тацита, для христиан, которых называли ненавистниками людского рода и неисправимыми злодеями, изобретались самые ужасные мучения. Пытки и истязания были столь нестерпимы, что даже в палачах пробуждалось чувство сострадания к своим жертвам. Этих несчастных распинали на крестах; завертывали в шкуры диких животных и швыряли на растерзание псам; сжигали на кострах. По вечерам, облитые смолой, они горели в садах Нерона, служа факелами для освещения аллей и дорожек гулявшей публике.
Во время этого ужасного гонения пострадали святые апостолы Павел и Петр. Первый по праву римского гражданина был усечен мечом, второго – распяли на кресте вниз головой. Он сам просил повесить себя так, ибо не считал себя достойным быть распятым таким же образом, как его Божественный Учитель.
Блаженный Августин писал, что Петр был казнен первым, Павел же вскоре (не более чем через год) за ним последовал. По другой версии, обоих апостолов замучили в один день – 29 июня 66 года. Павла погребли на пути в Остию. В последующие века на этом месте воздвигли во славу апостола великолепную базилику, просуществовавшую до 1823 года, когда она сгорела при пожаре, и вновь восстановленную.
Несмотря на гонения и смерть двух выдающихся представителей Церкви Христовой – апостолов Петра и Павла, число последователей новой веры год от года возрастало.
Преемником апостола Петра (вторым Папой Римским) стал епископ Лин, который управлял Римской Церковью в продолжение двенадцати лет. Его сменил Клет, или Анаклет, – третий епископ, уроженец Афин и ученик Петра, обращенный им в христианство и занимавший с 78-го по 90 год священный римский престол.
Четвертый епископ – святой Климент Римский – свидетельствовал о себе, что по происхождению (по матери) он еврей, а отец его, Фаустин, был римлянином. Предполагают, что он происходил из Флавиев – очень многочисленного в Риме рода, к которому принадлежал и кесарь Веспасиан. Согласно этой версии, более чем вероятной, Климент приходился родственником императору Домициану – верховному жрецу, сосредоточившему в себе всю мощь язычества.
Столица мира, лишенная живой веры, постепенно сделалась центром всевозможных философских систем и самых разнообразных, даже противоречащих одно другому религиозных учений. Египет дал Риму своих таинственных богов, а когда влияние авгуров и прорицателей по внутренностям жертвенных животных ослабело, Халдея прислала в Рим собственных предсказателей и астрологов. Аполлоний Тианский «привез» из стран Востока учение браминов и индусских философов, которых он посетил в Верхнем Египте и Эфиопии. Впрочем, дыхание Востока коснулось Рима даже раньше – с тех времен, когда жрецы во время торжественных жертвоприношений, окружая себя жреческой пышностью Армении, стали появляться во фригийских тиарах.
Иосиф Флавий, взятый в плен Веспасианом, своими многочисленными сочинениями привил римлянам интерес к иудейским древностям. Веледа, оказавшаяся в римском плену, привнесла в местную культуру традиции древнегерманских племен, а приглашенная в Рим пророчица Ганна – галльских народов.
Наконец появилось христианство с сонмом апостолов, мучеников и святых жен, чье слово служило назиданием, а каждый поступок – примером благочестия.
Какое же положение занимала древняя религия Рима среди этого бесконечного разнообразия всевозможных культов? Пользовалась ли она уважением своих прежних последователей? По-видимому, да: божества почитались, языческие храмы стояли на своих местах, в великолепных залах по-прежнему совершались жертвоприношения. Верховные боги, такие как Юпитер, Юнона, Минерва, Веста, Церера, Нептун, Венера, Вулкан, Меркурий, Аполлон, Диана, считались основателями и хранителями государства; почитались также Сатурн, Плутон, Вакх и многие другие, более низшие божества. В каждом жилище имелись пенаты и лары – боги-хранители и покровители домашнего очага. Жрецы исполняли свои обязанности, побуждая народ придерживаться религии предков. Жрицы-девственницы бодрствовали, непрерывно поддерживая священный огонь, некогда зажженный Вестой и ежегодно возобновляемый в мартовские календы при посредстве солнечных лучей. Январские агоналии (в честь Януса), сопровождаемые играми, флоралии и фауналии – торжества в честь Флоры и Фавна, луперкалии и прочие большие и малые праздники отмечались из года в год в положенные даты, торжественно и с подобающими обрядами.
Даже если предположить, что вера в сердцах римлян постепенно ослабела, привычку, устоявшуюся веками, не так-то легко искоренить. Рим до такой степени был напичкан статуями почитаемых богов, что, по словам Петрония, «в этом городе с тремя миллионами жителей легче было встретить бога, чем человека». Неудивительно, что римляне довольно равнодушно проходили мимо этих изваяний, почти не задерживая на них взгляда.
Уже приближался век, когда Цицерон в сочинении «О природе богов» издевался над культами языческой религии, утверждая, что не осталось ни одной беззубой старухи, которая еще боялась бы гнева Зевса и не смеялась бы над его громами.
Философы и математики продолжили разрушение язычества.
Было очевидно, что древняя религия нуждается в обновлении. Возникал лишь вопрос, какое именно из вероучений способно оживить дряхлеющее общество и завоевать умы и сердца людей.
Подобно тому как в ночной тьме заблудившийся путник поднимает глаза к небу, чтобы найти звезду, которая направила бы его на истинный путь, так и взволнованный Рим искал для себя свет, открывающий новые горизонты. И вот этот факел, так горячо всеми ожидаемый, засиял среди окружающей тьмы и хаоса. Несмотря на преследования и насмешки, которые возбудила против себя новая религия, именно она послужила тем долгожданным светочем, к которому обратили взоры народы всего мира.
Люди отвергали изжившую себя религию не ради того, чтобы променять ее на учение Аполлония Тианского и других адептов, суливших своим последователям земные соблазны, – нет, многие сознательно шли за Христом, хотя и знали, что их ждут тяжкие испытания, всевозможные лишения и мучительная смерть. Историки той эпохи приводят неоспоримые доказательства неотвратимого тяготения римского народа к христианству.
Учитывая все это, понятно, почему Домициан забеспокоился о прочности своего владычества и будущей судьбе Рима. Он видел, что христианство теснит его власть со всех сторон и оградиться от него невозможно нигде, даже в императорском дворце. По этой причине Домициан счел своевременным позаботиться о восстановлении древнего культа. Он учредил новые праздники и отдал себя под покровительство Минервы, богини оружия и мудрости. В то же время он явил Риму пример недальновидности и гордыни, объявив себя богом и пожелав, чтобы в Капитолийском храме (Храме Юпитера) установили его, кесаря, золотую статую и воздавали ей почести.
Народ вознегодовал, узнав, что правнук крестьянина и внук всадника дерзнул приравнять себя к божествам, и тот в очередной раз задумался о величии христианства, где понятие о Боге едином, вечном и бесконечном делало невозможным присвоение Его имени простым смертным.
Домициан тем не менее не торопился признавать свое поражение. Движимый страхом перед потомками Давида, которые могли разрушить его империю, цезарь отправил в Иудею своего военачальника, чтобы тот разыскал и привез в Рим потомков ненавистного рода.
С целью воскресить в памяти народа древнеримские обычаи, традиции и обряды Домициан приказал уличить Vestalis Maxima в таком злодеянии, которое позволило бы приговорить ее к смерти со всеми ужасами приготовления к страшной казни, применяемой в отношении жриц-девственниц, нарушивших обет целомудрия. Наконец, заподозрив своих родственников в сочувствии христианам, тиран обрушился на них со всей яростью, дабы умилостивить оскорбленных богов кровавым жертвоприношением.
Таковы были намерения императора, когда он покидал Рим, чтобы закончить войну с дакийцами. Неудивительно, что подлые доносчики прилагали все силы и прибегали к любым ухищрениям, чтобы дать пищу ненасытной кровожадности Домициана. Марку Регулу приказали следить за Флавием Клементом и его женой Флавией Домициллой, так как ходили слухи, что они стали последователями Христа. Кроме того, Регулу предстояло найти улики против Корнелии, чтобы обвинить ее и ее сообщника Метелла Целера в ужасном преступлении и лишить жизни.
Этот пункт своего жестокого и коварного плана – уличение весталки в бесчестии – Домициан считал едва ли не главным, ибо помимо расправы с неугодной верховной жрицей возникал удачный повод запугать других жриц Весты казнью за нарушение обета девственности.
Исполняя волю Домициана, Марк Регул подкупил Дориду, прислужницу божественной Аврелии, а параллельно развращал подачками раба-остиария Палестриона, обещая ему статус либерта и умело вытягивая из него сведения об отношениях Метелла Целера и великой весталки Корнелии.
Однако в тот момент, когда, по расчетам Регула, его цель была почти достигнута, в доме Аврелии появилась купленная ею на невольничьем рынке рабыня, и с этого момента наше повествование принимает совсем другой оборот.
6
Нужно отметить, что эта надпись – «Saimoni Deo sancto» – толкуется и в другом, более вероятном смысле: Saimon, или Сэмон, – имя сабинского божества.