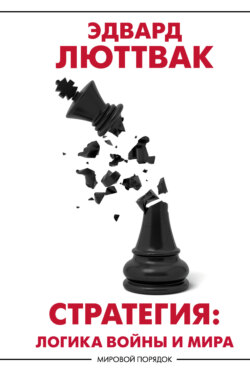Читать книгу Стратегия. Логика войны и мира - Эдвард Люттвак - Страница 9
Часть 1
Логика стратегии
Глава 1
Осознанное применение парадокса на войне
Преобладание парадоксального действия
ОглавлениеПреимущества внезапности, предоставляемые парадоксальными схемами, тем самым сводятся на нет не только потерями в боевом потенциале, сознательно приносимом в жертву, но и дополнительным организационным риском. При этом бесхитростные военные действия, полностью определяемые линейной логикой во имя полноценного применения всех доступных ресурсов простейшими способами, не так уж часто встречаются в истории войн и еще реже избегают критики впоследствии. По крайней мере, отдельные парадоксальные элементы всегда присутствуют в подготовке и проведении самых удачных военных действий.
Разумеется, командира, силы которого обладают неоспоримым превосходством, всегда можно оправдать за отказ от внезапности ради полномасштабной подготовки и полноценного применения сил простейшими способами во имя минимизации организационного риска. Например, так обстояло дело на начальном этапе колониальных войн, где бы те ни велись; пока местные воины не научились разбегаться при встрече с хорошо обученными европейскими солдатами, вооруженными скорострельным оружием, лобовые атаки были крайне эффективными. Так происходило и в последние месяцы Второй мировой войны в Европе, когда американская, британская и советская армии с их подавляющей огневой мощью отдавали предпочтение прямолинейным нападениям на немецкую армию, пребывавшую в упадке, а ВВС этих стран отбросили все ухищрения и приступили к массированным дневным бомбардировкам, фактически не сталкиваясь с сопротивлением немецких и японских сил ПВО. Это все еще была война, однако логика стратегии в ней больше не применялась, потому что реакцией врага (да и самим его существованием в качестве сознательного живого организма) можно было пренебречь. Когда враг настолько слаб, что его войска представляются пассивными мишенями, которые впору считать неодушевленными, то обычная линейная логика промышленного производства со всеми своими привычными критериями производственной эффективности обретает полную силу, а парадоксальная логика оказывается несущественной. (Ср. у Клаузевица: «Существенное различие между ведением войны и другими искусствами сводится к тому, что война не есть деятельность воли, проявляющаяся против мертвой материи, как это имеет место в механических искусствах… Война есть деятельность воли против одухотворенного реагирующего объекта. К такого рода деятельности мало подходит схематическое мышление, присущее искусствам и наукам; это сразу бросается в глаза…»)
Стратегия объединяет как предотвращение войны, так и ее ведение на всех уровнях, от тактики до большой стратегии, но она ничего не говорит о сугубо административной стороне военных действий, где воля реагирующего врага не играет ни малейшей роли. Бесполезно натягивать на ногу сапоги на три размера меньше нужного или применять оружие не по назначению, ибо ни сапоги, ни оружие в этих случаях не будут способствовать парадоксальности действий; точно так нет необходимости обходить врага и застигать его врасплох, если враг настолько слаб, что любой его реакцией можно попросту пренебречь. Впрочем, столь благоприятные условия встречаются крайне редко: лишь немногие враги осознанно решают сражаться против значительно превосходящих сил.
Несколько шире распространено иное явление, когда вооруженные силы считают себя значительно превосходящими и потому следуют линейной логике, чтобы оптимизировать управление собственными ресурсами; они даже не пытаются застичь врага врасплох какими-то подходящими к ситуации парадоксальными ходами. На самом деле роль, отводимая парадоксу в ведении войны, должна отражать воспринимаемый баланс сил (обычно так и происходит). Парадоксально, кстати, и то, что сторона, которая оказывается материально слабее и потому имеет веские основания опасаться прямого лобового столкновения, может извлечь наибольшую выгоду благодаря самоослабляющему парадоксальному поведению – если сумеет достичь преимущества внезапности, которое сулит победу.
Если неблагоприятный баланс сил не является простым стечением обстоятельств места и времени в контексте отдельно взятого столкновения, битвы или кампании, но отражает постоянное положение того или иного государства среди других государств, то следование линии «наименьших ожиданий» через парадоксальные действия способно стать определяющей характеристикой национального стиля войны. Израиль представляет собою любопытный современный пример такого подхода к войне. Первоначально его вооруженные силы систематически старались избегать любого прямого боестолкновения, искали взамен парадоксальные альтернативы, предполагая, что враг заведомо материально сильнее – по численности живой силы и в техническом отношении. С ходом лет общий баланс сил сместился в пользу Израиля, и ситуации, в которых израильские войска действительно оказывались в численном меньшинстве или уступали противнику в огневой мощи, свелись к таким случаям, как рейды коммандос, когда небольшие силы сознательно внедрялись глубоко на вражескую территорию. Постепенно Израиль привыкал полагаться на собственное материальное превосходство, в дополнение к преимуществу в обученности, сплоченности и лидерстве. Произошла адаптация к новым обстоятельствам – к примеру, стало меньше заранее спланированных ночных боев. Но израильтяне продолжали в большинстве случаев избегать прямого столкновения – отчасти по привычке, но в основном из желания минимизировать потери. Войну за войной и в промежутках между ними, когда случалось немало отдельных столкновений, израильтяне неизменно предпочитали самоослабление и дополнительные организационные риски ради внезапности. Израильские войска материально слабее, чем им полагалось бы быть (вследствие ограничений секретности и обмана, вследствие поспешных импровизаций или чрезмерной протяженности фронта), и потому действуют, добровольно принимая на себя такое трение, что их состояние почти совпадало с хаотическим состоянием раздробленных, регулярно побеждаемых врагов, застигнутых врасплох (а силы последних либо не сосредотачивались в нужном месте, либо не были готовы к сражению морально и материально).
Привычное предпочтение, отдаваемое израильтянами парадоксальному действию, идущему вразрез с общепринятым, не могло продержаться долго, не обессмыслив в конце концов свою цель. С течением времени противники начали пересматривать свои ожидания. Они на опыте научились не доверять своим оценкам предполагаемых ходов израильтян, поскольку эти оценки опирались на здравомыслящие расчеты «наилучших» действий, доступных израильтянам. Наконец в ливанской войне в июне 1982 года сирийцы нисколько не удивились попытке израильтян направить целую танковую бригаду им в тыл по единственной узкой дороге через горы Шуф и вовремя сумели заблокировать этот узкий проход[12]. Но вот следующий шаг израильтян оказался для сирийцев совершенно неожиданным: они не могли предвидеть (и потому, по сути, лишь пассивно наблюдали) прямой лобовой и массированной танковой атаки на Ливанскую долину[13]. При крайне благоприятном балансе сил и ввиду ограниченного времени, поскольку уже было известно о грядущем прекращении огня, израильтяне решили пожертвовать надеждой на внезапность и атаковали в лоб среди белого дня; неготовность сирийцев приятно их удивила. Ясно, что к 1982 году для израильтян с их парадоксальным стилем войны, столько раз продемонстрированным в предшествующих столкновениях, линия «наименьших ожиданий» сводилась только к прямому, лобовому подходу.
12
Эта дорога вдоль гор Шуф, от Джеззина до трассы Бейрут – Дамаск, которая, в свою очередь, ведет на восток к Штауре в долине Бекаа, была целью израильтян, поскольку там находилась ставка сирийских войск в Ливане. Наступление израильтян остановили у Айн-Жальты, в нескольких милях от шоссе. См.: Zeev Schiff and Ehud Yaari, Israel‘s Lebanon War (1984), стр. 160–161.
13
Наступление 446-го корпуса Бен-Галя началось рано утром 10 июня 1982 г. См.: там же, стр. 117, 171–173.