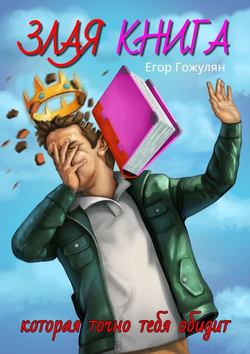Читать книгу Злая книга. Которая точно тебя обидит - Егор Гожулян - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Здесь все не то, чем кажется
Не на%$бешь – не проживешь?
ОглавлениеТо ли мне показалось, то ли добрая половина человечества и вправду уверена, что люди богатые и властные, во всяком случае, большая их часть – это почти всегда воры и обманщики (исключение, конечно, составляют крупные лидеры, которые пришли спасать этот мир, а эта вся бюрократическая сволочь им мешает). «Этот готов идти по головам», – с ноткой зависти говорят о коллеге, которому пророчат высоты карьерной лестницы. «Не на$%ешь – не проживешь». «Ты добрый, и на тебе все будут ездить». «Наглость – второе счастье». Согласно этим пословицам в человеческом обществе, как, безусловно, агрессивной окружающей среде, лучше должен устраиваться тот, кто злее, коварнее и беспринципнее. С этим, пожалуй, стоит разобраться подробнее.
Есть, так называемая, дилемма заключенного2. Итак, поймали двух преступников (неважно, на чем), и обоим предложили заложить компаньона. Их допросили, каждый поклялся, что невиновен и не понимает, почему он тут. Тогда следователь пригласил ребят в кабинет, налил чаю и говорит: «То, что каждый из вас считает себя невиновным, мы выяснили. Что ж, тогда завтра я спрошу у вас, что, по вашему, на месте преступления делал второй. И знайте, если вы оба будете молчать, каждый получит по полгода. Если оба настучите друг на друга, то по 2 года. Но если кто-то один из вас заложит другого, а второй промолчит, то молчащего мы и будем считать виновным и посадим на 5 лет, а стукача отпустим, раз уж против него показаний нет». И следователь нарисовал им следующую таблицу, чтобы им легче было понять, что он имеет в виду.
Дилемма заключенного
После этого оба преступника разошлись по своим камерам. Сидит теперь первый и думает, как же поступить. В сторону эмоции, будем рассуждать логически. Предположим, второй настучит. Что же тогда делать ему? Молчать и сесть на 5 лет? Нет, конечно, тоже стучать, 2 года лучше, чем 5. А если второй промолчит, тогда что делать? Молчать – сесть обоим на полгода, стучать – второй сядет на 5 лет, но меня-то отпустят. А у меня семья, планы на жизнь, они мне дороже, чем подельник. Выходит, в обоих случаях выгоднее стучать. И точно также рассуждает второй. И оба стучат. И оба идут на 2 года. Но ведь они знали, что есть возможность обоим отсидеть только по полгода, и знали, что для этого нужно сделать. Но сама возможность быть обманутым второй стороной привела их к не самому оптимальному варианту.
К сожалению, дилемма заключенного носит не умозрительный абстрактный характер. Гонка рекламных бюджетов компаний-конкурентов строится по той же схеме, выигрывает в этой гонке только рекламная площадка, которой соперники дают все больше и больше денег, лишь бы на самом видном месте были они. Гонка вооружений двух стран протекает схожим образом. Можно потратить деньги на развитие экономики, но это даст плоды только в долгосрочной перспективе, а напасть могут завтра, поэтому давайте тратить на вооружение. Вторая сторона рассуждает так же, в итоге обе живут на иголках, прилично вооружены, но на повышение уровня жизни граждан мало что осталось. И если случится война, эти граждане добровольно туда не пойдут, потому что защищать им особо нечего.
Интересно вот что. Если рассматривать дилемму заключенного как повторяющийся процесс, то многое может измениться. Представим себе игру, в которой участники не садятся в тюрьму сразу после первого хода, а получают или теряют очки по очень похожей схеме:
Игра на основе дилеммы заключенного
Разобравшись с этой таблицей, участники узнают от ведущего, что игра длится, допустим, 5 ходов. Видимо, показывать черную метку уже в первом ходу не стоит. Ведь тогда отношения испортятся с самого начала, и от этого игрока ничего, кроме потерь, ожидать не придется. Значит, на первом ходу имеет смысл быть «добрым» и показывать белую метку. И так делать до самого или почти до самого конца, ведь поддержание хороших отношений позволит стабильно получать по 3 очка и ничего не терять от рискованной игры. А если поставить черную метку, уже буквально на следующем ходу оппонент ударит в ответ, и больше заработать с ним/на нем не получится.
Но ведь рано или поздно наступит последний ход. И все знают, что на этом конец, а игра превращается в классическую дилемму заключенного, где рассуждения будут строиться по типу описанной в начале ситуации с преступниками, когда каждый ожидает подставы от второго, и поэтому подставляет сам. Тогда на последнем ходу все резко становятся «злыми» и показывают друг другу черную метку. Но раз мы знаем, что итог пятого, последнего хода с большой долей вероятности предопределен, то имеет смысл тогда «кинуть» всех на четвертом ходу. Но если так будут рассуждать все, то станет заранее известным итог и четвертого хода, а тогда надо «кидать» всех на третьем, и так мы можем дойти и до самого первого. Что же делать?
Когда дилемма заключенного стала приобретать популярность, был организован турнир, в котором соревновались компьютерные программы, используя различные стратегии-алгоритмы. Чем хороши компьютерные программы? Чтобы посмотреть, как сто программ, пользующихся ста различными стратегиями, будут взаимодействовать друг с другом и что из этого выйдет, нужно потратить максимум несколько минут. А чтобы результат применения этой же стратегии в других условиях (другое количество ходов, получаемые и теряемые баллы, введение доп. условий, когда очки последнего хода, скажем, удваиваются и т.д.), нужно потратить еще пару минут, запустив цикл заново с другими вводными. И уже за несколько таких турниров может накопиться интересная статистика о том, какие стратегии успешны, а какие нет. И такая статистика накопилась. Итак, барабанная дробь, что же объединяло успешные программы:
1. Они были «добры» к коллегам. Начиная знакомство с другой программой, они сначала ставили белую метку. И делали так в дальнейшем, никогда не предавая первыми. Они были «добрыми» не потому, что родители так учили, не потому, что это высокоморально, и даже не потому, что в противном случае Боженька покарает, а потому что так было выгодно. Они были «эгоистичны», они «хотели» заработать больше баллов и именно поэтому не делали зла товарищу. Во всяком случае, пока тот не делал зла им.
2. Они «наказывали подлецов», то есть не давали другим программам пользоваться их «добротой» и, получив черную метку, били в ответ. Не факт, что так они поступали уже с первой черной метки, но со второй точно можно ответить тем же. Не стоит только путать наказание с местью, цель не в том, чтобы потопить злодея и самоутвердиться, а в том, чтобы объяснить: «со мной так не надо, у меня тоже есть зубы, вот они, смотри».
3. Они умели «прощать». Из цикла отмщения надо как-то выходить. И, дав понять, что они готовы к «трудной» игре, готовы ударить в отместку, если потребуется, они вновь демонстрировали, что хотят вовсе не этого. Давай лучше жить дружно, смотри, я не гордый и первый протяну руку, первый пойду на примирение, так выгоднее для нас обоих, держи снова белую метку.
4. «Независтливые». В каждом ходу они старались набрать не больше соседа, а больше, чем у них самих было на предыдущем ходу. Интересно, что, когда в расширенной версии такой игры участвуют люди, они с удовольствием пользуются дополнительными возможностями типа «потратьте одно очко, чтобы любая другая команда на ваш выбор потеряла три» и редко пользуются опцией «получите одно очко, чтобы любая другая команда на выбор ведущего (или ваш собственный) получила три». Свою успешность человек определяет в сравнении с остальными, очень часто считая, что дела идут плохо, потому что у соседа лучше, или наоборот, радуясь, что у меня долгов только на 100 000, потому что у Петьки-то на целый мильон.
И что-то мне подсказывает, что эти черты характерны не только для успешных компьютерных программ, участвовавших в турнире, их можно перенести и на человеческое общество.
Подытожим. «Добрый» человек вовсе не обречен влачить жалкое существование и всегда проигрывать аморальным подлецам. Быть добрым очень часто выгодно, и не потому, что родители так сказали, не потому, что религия, не потому, что человек не животное. Это выгодно чисто математически, эгоистично. Разумеется, любые крайности вредны, и исключительно «добрые» стратегии проигрывали ровно так же, как и исключительно «злые». Однако людям проще поверить в то, что «вон те» хорошо устроились, потому что «плохие» люди, наворовали, «пошли по головам» или еще чего, а я хороший, поэтому такой несчастный или бедный. Дело не в этом, просто кто-то глуп и ленив, а кто-то – нет.
Подлец – недалекий человек, действующий ради сиюминутной выгоды.