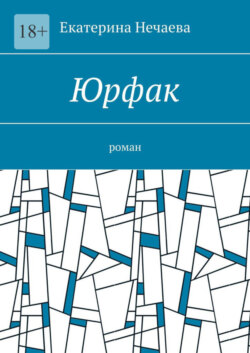Читать книгу Юрфак. Роман - Екатерина Нечаева - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХРУПКИЙ ЛЁД ДЕТСТВА
Глава третья. С севера на юг
Оглавление***
Догонять длинноногую Лиду никто не стал, и хоть Ара и порывался организовать погоню, у него ничего не вышло. Гуща, уверенный в себе, успокоил всех тем, что девчонка всё равно никому ничего не скажет, иначе он самолично сделает из неё жабу.
Парта, предвкушая дальнейшее показательное выступление Гущи, вынес из шалаша ещё одну приговорённую к смерти живность. Ребята после поступка одноклассницы переговаривались и перемигивались – им тоже оказалось не по нутру то, что здесь происходит. Ара и Парта, как и в первом случае, опрокинув жабу брюшком вверх, держали её вдвоём за верхние и задние лапки. Гуща изготовился препарировать несчастное существо, но остальные ребята, взявшись за руки, дружно шагнули вперёд и закричали, чтобы Сергей не смел этого делать. Мальчишка остановился, развернулся к одноклассникам, держа нож перед собой, и зло посмотрел на толпу. Парта ослабил хватку и тоже повернулся лицом к ребятам, Ара же изо всех сил большим пальцем нажал на лапу жабы, и теперь она трепыхалась тремя лапками, пытаясь освободиться.
– Вы все слабаки! – выкрикнул Гуща. – Кто может из вас вырасти? Кучка недоумков! Трусы! Сколько раз ты можешь отжаться? – он легонько ткнул ножом ближайшего к нему мальчишку, в глазах которого застыл тихий ужас. На уроках физкультуры Гущин отжимался и подтягивался в несколько раз больше, чем все остальные. Это был неоспоримый факт.
– Да, сколько раз? – подтявкивал Ара, в одиночку удерживая жабу, потому что Парта, грозно сжав кулаки, переместился в эпицентр событий, поближе к Гуще. Ребята молчали, сказать что-то против успехов Гущина на уроках физкультуры они ничего не могли. Кто-то несмело предложил уйти и не связываться. Одна из девчонок, поглядывая на нож, заплакала. Гуща наслаждался эффектом, переводя играющее солнцем лезвие ножа то на одного, то на другого. Девчоночий плач стал громче. Толпа завозмущалась, и в это время, ловко перескакивая сырые места, на тропе появился Гущин-старший.
Вечером Сергею влетело по полной программе. Отец бросил его на панцирную кровать животом вниз, привязал за руки к металлическим прутьям, засунул в рот кляп и замахнулся. Сначала Сергей-младший сумасшедше вращал головой и выпучивал глаза, а потом потерял сознание. После того, как акт наказания был свершён, в изнеможении опустившись рядом, Гущин-старший заплакал. От отчаянья, от невозможности всё вернуть на круги своя, от того, что роль отца оказалась много сложней, чем он предполагал. Его пугало, что дети поднимут шум, трезвоня обо всём на каждом углу, что его доброе имя будет опорочено. Что делать, он не знал и не понимал. Бить ребёнка никогда не входило в его планы, но и быть отцом серийного убийцы тоже. Сотрясаясь всем телом, он навзрыд плакал и долго-долго гладил ноги Серёжи, потом аккуратно развязал руки, достал кляп и поднял футболку. Увидев сплошное месиво, сотворённое пряжкой ремня, он, размазывая слёзы по щекам, затрясся от плача ещё сильнее. Сына ли было жалко, себя ли, потерявшего контроль над самим собой, – он не понимал. Вызрело одно – отсюда надо уезжать. Как можно скорее.
***
Лето скомкалось, серой полосой протаранив время каникул. С окраинного рабочего посёлка отец и сын Гущины перебрались на другой край города, на десятки километров растянувшегося вдоль реки, и обосновались в новом спальном районе, только-только подошедшем к расцвету своего развития. Отец, привыкший к сдержанности и хладнокровию, а потому с трудом отошедший не столько от зверств сына, сколько от собственной ярости, шутил, что, мол, с севера на юг перебрались, что теперь теплее будет, но младшенькому было не до шуток. И не до тепла.
На улице уже вовсю желтело, рыжело, краснело, впечатывалось в до безумия голубое небо, а Серега всё страдал. Постоянно ныла спина, по внутренностям клубком из колючей проволоки бешено крутилась боль, казалось, что физические нагрузки были невыносимы, но постепенно эти ощущения уступили перед натиском боли душевной, обретающей гротескные формы. Мальчишка, возненавидев отца, открыл для себя простую истину, что в этом мире нет и не может быть ни друзей, ни близких, ни вообще никого. Есть только конкретно взятый человек со своими болями, страхами, принципами, и, чтобы выжить в этом беспощадном мире, надо быть хорошим до кончиков пальцев, надо уметь притворяться, надо давать то, что от тебя ждут. Он не хотел больше никаких страданий. Не хотел боли. Его душа настолько замкнулась в одиночестве и обросла многослойным щитом, что всё внешнее имело для него значение лишь тогда, когда он был значим, в противном случае – его не интересовали ни отношения, ни события, словно бы их не существовало вовсе. Ненависть, сквозь которую он не видел ничего и не чувствовал никого, стала его обычной средой обитания.
В шквале этих чувств и дум Гущин-младший неумолимо взрослел под неустанным надзором отчаявшегося отца, превратившего всё существование сына в дрессуру: физические нагрузки сменялись умственными, умственные – механическими, механические, подразумевающие под собой формирование привычек, мучительно перетекали в накачивание мышечной массы, и так – по кругу. Добавились шахматы – чтобы совсем исключить свободное время. Их Сергей также возненавидел, потому что, отдаваясь внутреннему пылу, никак не мог понять элементарных тактических приёмов, при этом он чувствовал злобность и высокомерность отца, выигрывавшего раз за разом и унижающего его своими выигрышами. Но больше всего Серёжа ненавидел привитие ему жёстких привычек и режимных моментов, особенно его выбешивало, когда отец говорил, что вредные привычки даются легко, но жить с ними ох как трудно, напротив, взрастить в себе что-то полезное – это стоит труда, зато жизнь потом легка и упорядочена. Чем больше мальчишка взрослел, тем больше неприятия вызывали в нём умности отца, но слова вонзались в душу и утаптывали себе местечки в нишах души, вгрызаясь в неё, словно дикие шакалы, почуявшие падаль. Ненависть, выпирающая из глубин требующей отмщения души, привязала ребёнка к отцу намного сильнее, чем любое иное чувство.
Но были в жизни Гущина-младшего и особенные моменты, которые выходили за пределы ненавидимых им вещей. Он был умён, любил сопоставлять и размышлять, особенно над природой человека и над его зависимостями. Он был изворотлив. Например, чтобы избежать игр в шахматы дома, он стал оттачивать свой мозг в школьном шахматном кружке, и игра поддалась, стала понятна и даже любима. Сергей в долгих часах раздумий над доской в чёрно-белую клетку стал находить блестящие решения шахматных задач, он создавал свои этюды и восхищался красотой и многообразием мира, уместившегося всего на шестидесяти четырёх клетках. Профессионалом он не стал, но игра стала для него большим спасением от самого себя, нежели всё остальное. Он научился стратегически выстраивать всё вокруг, с лёгкостью переставлял детей в классе, то повышая, то понижая их статус, при этом сам оставался на незыблемых, чётко сформированных им позициях. Процесс «отдай последнюю рубаху и получи взамен душу», мало осознаваемый в первом «втором» классе, приобрёл видимые черты и вполне осязаемые контуры. Сергей анализировал соотношение ценности отданных вещей и количество полученного для управления душой времени. Это захватывало, и он не на шутку увлёкся созданной игрой.
Со временем позывы причинять боль исчезли совсем – их перекрыла зависимость от восторженности других, от их восхищения его, Серёги, поступками.
По ночам в странных сюрреалистичных снах он часто видел озеро, цветом и формой напоминающее глаза мамы. Он подолгу ждал её на берегу, смотрел, как с плоскогрудой сопки за озером, цепляясь за верхушки деревьев и повисая на них клочьями, ползло облако тумана. Чем ближе оно подбиралось, тем тревожней становился сон. Когда туман зависал над самым центром ртутно-серебристой глади, то превращался в кристаллики льда, по форме похожие на кораллы, и из них, как пазл из фрагментарных отрывков, собиралось заиндевевшее лицо матери, на котором живыми были только глаза, смотрящие на сына с восхищением и грустью. Поначалу Серёжа пытался бежать к ней, что-то отчаянно крича и протягивая руки, но каждый раз, достигая озера, он проваливался в зловеще ледяную воду и уходил ко дну, в чёрную непроглядную тьму, где тело сразу же стягивало коконом, внутри которого невозможно было дышать. Потом всё замирало, и мир прекращал своё существование. До утра. До дребезжащих на тонких нотах волн в голове, разрывающих сон. До спазмов в животе. До самой реальной рвоты. До детских ненавистных слёз в подушку, тщательно скрываемых от отца.
В старших классах изрядно набравший мышечной массы и изворотливости мозга Сергей Гущин подчинил себе и эту, недоступную простым смертным, область. Он научился блокировать в себе желание бежать навстречу матери и просто сидел на берегу, глядя на лицо единственного любящего его человека. Иногда ему казалось, что пронзительно-синий взгляд мамы Леси молит о помощи, тогда он закрывал глаза и просыпался среди ночи, а после долго не мог уснуть, захваченный в плен озёрной яркостью. Но с годами он расширил границы возможностей в этом сне: принимал неподвижную позу и не мигая досматривал всё до конца, при этом взгляд его становился всё внимательней и внимательней, и он уже понимал, что то, что ему является, трудно назвать лицом. Это, скорее, голова, аккуратно отсечённая от тела, покрытая инеем, сквозь холод которого кричат широко распахнутые глаза. Почти плоский холм оказывался их старой квартирой, вернее, одной из комнат этой квартиры, а туманное облако, пытаясь достичь сознания Сергея, выплывало из облезлого пузатого холодильника. Видение, приходящее во сне с завидным постоянством, заканчивалось одним и тем же: холодильник раскрывал свои челюсти и мощным дыханием затягивал в себя выпущенную ранее туманную субстанцию, потом дверь с грохотом закрывалась (на этом месте главное не вздрогнуть, а то и его затянет в царство мёртвых, обречённых на холод, уж он-то знает – пройденный этап!), и взору не взрослеющего во сне ребёнка лет трёх-четырёх открывалось искрящееся озеро, освобождённое от ртутных красок и отражающее огромное, чуть зеленоватое, солнце. Серёжа зажмуривался, встряхивал своими чёрными кудряшками, махал на прощанье озеру рукой, разворачивался и уходил. Даже не уходил, нет, – просто делал шаг от всего, что видел, после чего сразу наступало утро. Шесть часов зимой и летом. Пробежка. Отжимания. Ледяной душ. Сосредоточенное молчание за завтраком. Деланно приветливое лицо одного и избегающее взглядов другого. И вечная шахматная партия, затягивающаяся порой на несколько месяцев. Доска стояла на кухне, и один из них, чей черёд был ходить, мог долго стоять над ней в раздумьях. Иногда они делали по одному ходу в неделю. И надо отдать должное Гущину-младшему – теперь половину партий он уверенно выигрывал у отца.
Дорога на юг, хоть и в пределах одного города, сыграла весомую роль в жизни Гущина-младшего, научившегося быть показательно хорошим. Сыновьих чувств, тех, что обычно питают дети к своим отцам, он не испытывал, зато периодически гонял в голове думы относительно воспитывающего его человека. Услышанная им однажды фраза, что самые жизнеутверждающие мысли – это мысли о смерти, полностью и бесповоротно оправдывала его желание о скорейшем исчезновении отца с лица этого бренного мира. Но человек мечтает, желает, а бог – располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления или неосуществления замыслов человечьих. Бог иногда подкидывает компромиссные варианты, словно даёт возможность повернуть ключик в грешной голове, чтобы человек постарался хоть что-то исправить. Пользуемся ли мы этими возможностями? Умеем ли их распознать или разгадать своими человечьими мозгами, закованными в обитые железными обручами сундуки, замкнутые на амбарные замки?
Компромисс – занятная штука, мучавшая голову Гущина-младшего лет с десяти. Позднее, будучи уже студентом, он (да, небезосновательно – опыт есть опыт) считал, что для достижения компромисса чаще всего необходим компромат, а сам компромисс кроется в том, насколько ты договоришься сам с собой и как преподнесёшь уличающие факты.
***
В нашей стране, как и в любой другой, постоянно что-то происходит: вызревают реформы, надрывно стуча шестерёнками встраиваемых в действительность механизмов жизни, скалят стёртые зубы изжившие себя законы и принципы, сквозь которые пробиваются новые, находящие как противников, так и сторонников, громыхают сапогами по мостовым городов и спешат восвояси* железобетонные конструкции новых идейных форм, взращенные моралистами, настоянные на древнем содержании, без которого всяческое поползновение не имеет смысла. Надрывно скулит вера, тайком распахивая двери дома, где столько комнат, что не трудно и заблудиться, где и боги-то не могут ужиться друг с другом, а не то что люди, обречённые на конечность и тешащие себя надеждой обрести бессмертие.
Становление Гущина пришлось на весьма интересный период истории страны, в одно десятилетие познавшей несколько руководителей, отличающихся и стилем управления, и идеями. А новая школа с новым коллективом, в котором он был ни Дартом, ни Гущей, а просто Серёгой, добавила остроты и ясности восприятия. Сначала он, тайком да урывками улавливая разговоры взрослых, смаковал мифы о странным образом взлетевшем на вершину партийного айсберга бывшем кэгэбисте Андропове, учинившем коррупционным структурам разнос, и выстраивал свои гипотезы, выдвигал свои версии преступлений тех, чьи карьеры летели в тартарары. Потом, вместе с отцом, наконец-то отошедшим от времён застоя и начавшем откровенно высказывать свои мысли, Сергей ждал смерти больного, почти не дееспособного Черненко, а на горизонте уже маячило обнадёживающее время тотального послабления в воспитании со стороны Гущина-старшего.
Нельзя сказать, что развитие системы каким-то образом влияло на отношения отца и сына и что распределённые судьбой роли подчинялись скрипу государственной машины, но перемены на высшем уровне влекли за собой соответствующие поправки в негласном кодексе их далеко не полной семьи. Отойдя от смерти Черненко и попривыкнув к переменам, отец снова было взялся за «моральный облик» сына, изо всех сил показывавшего свою социальную пригодность, но политическая свобода и гласность, нахлынувшие на страну и сулящие разного рода блага, внесли свои коррективы в их отношения, и методы воспитания, шагая в ногу со временем, чуть смягчились, заиграли красками кажущейся лояльности.
К тому времени Сергей Геннадьевич окончательно утвердился в мысли, что он существо более высокого порядка, чем многие живущие на этой земле, мечтающие о счастье, видевшемся ему в познании себя через боль, так настойчиво отвергаемую другими. Как более развитый, он наложил на себя табу и не позволял себе опускаться до склок, скандалов, сплетен и прочего, прочего. В выросшем в нём понимании счастья он стал корить себя за рукоприкладство, а точнее – ремнеприкладство, совершённое несколько лет назад. Глядя на неуклонно растущего ребёнка, он буквально тонул в чувстве вины перед самим собой и изводил себя небезгрешным прошлым. Душу лишь грел имевшийся в рукаве ещё один ферзь, ход которого он спланировал уже сейчас. Дав себе слово растить сына без экстремальных мер и держа это слово, Гущин-старший вместе со всей школой, где трудился на благо подрастающего поколения, и вместе со всей страной, ожидающей это самое поколение для своего блага, восторженно вплывал на трещащем по всем швам корабле в лихие девяностые.