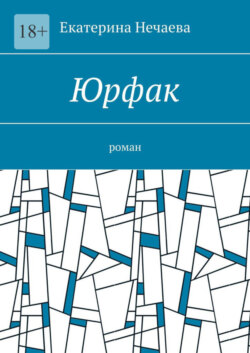Читать книгу Юрфак. Роман - Екатерина Нечаева - Страница 7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХРУПКИЙ ЛЁД ДЕТСТВА
Глава четвёртая. Пуговка
Оглавление***
Валюшка была самым счастливым ребёнком! И секрет её счастья был прост – в их семье любили разговаривать, неспешно попивая чаёк из весёлых белых чашек, усыпанных мелкими подмигивающими и улыбающимися ромашками. На столе пыжился самовар – семейная гордость и, как говорил папа, раритет. Раритет – значит, очень старый, а потому – и очень ценный. Валюшка тогда не знала, что слово «раритет» отец говорил, пытаясь заглянуть в далёкое будущее, когда изобретение пятидесятых станет связующей нитью между поколениями. Этот самовар, отливающий серебром, пузатый, натёртый всегда до блеска, подарили ещё на свадьбу Валюшкиной бабушке, которая традиционно собирала по субботам подруг (в большинстве своём – обделённых женским счастьем из-за отгремевшей войны) на чайные посиделки, песни и танцы, иногда к ним заглядывала и соседка Александра с вечно молчащим кавалером. Образ бабушки слабо сохранился в памяти Вали, но отец и мама по-прежнему собирали за огромным круглым столом своих друзей и соседей. А ещё немногословному Вениамину, отцу Вали, просто нравилось это слово. Раритет, и всё тут!
***
Суббота была святой, её ждали, предвкушая длинный вечер, неспешные беседы, возню с детворой, игры: играли в домино, лото, карты. Много смеялись, особенно, когда лучший друг Вениамина Тимофей изображал известных телегероев или ведущих, вещающих с голубых экранов, или животных разных мастей и пошибов, или просто рассказывал всякие небылицы, на которые был большой мастак!
Да, суббота была святой. Даже более! Ближе к обеду Вениамин уходил гулять с младшей сестрёнкой Вали Верочкой, которой не было ещё и года. Он гордо шествовал перед бордовенькой коляской, переделанной им в вездеход: передние и задние колёса, с которых он предварительно снял резину, соединялись старыми ремнями с ЗИЛа и образовывали гусеничные треки. Такую технику удобно и по снегу катить, и по лестничным пролётам. Коляска в уже модифицированном виде перешла к Верочке от Валюшки.
Счастливый отец обходил весь район с остатками деревянных двухэтажных бараков, здоровался с каждым встречным кивком головы, с кем-то останавливался, чтобы переброситься парой слов, мимо кого-то проходил быстро, но весь район, прозванный в народе Шанхаем то ли из-за когда-то многочисленных, ютящихся и прижимающихся друг к другу бараков, то ли из-за того, что к строительству приложили руки китайцы, неизменно любил высокого черноглазого красавца Вениамина. Заканчивался променад возле въехавшего своим ходом на пьедестал танка Т-34, над которым массивной стеной нависла современность в виде нового девятиэтажного дома с огромными буквами поверху «СССР – оплот мира». Ещё не так давно этого дома здесь не было. Как всё-таки быстро растёт и строится их город! Глядя на ютившийся между этим домом и танком уже расселённый барак, хозяин женского царства неспешно закурил. Весь район ждал скорейшего расселения, но, похоже, их дом на повороте трамвайных путей не входил в число избранных. Вениамин вздохнул, вспомнив, как трясёт стены, когда по рельсам громыхает трамвай, но потом представил, как девочки: жена и старшая дочь – сейчас наводят порядок в их уютном и тёплом доме. До школы Валюшке ещё полтора года, но помощница из неё уже получилась отменная!
Традиционно к четырём ждали Тимофея с женой, Маринину когда-то лучшую подругу, изредка забегавшую к ним и никак не желавшую замуж, и пожилую пару, жившую с ними на одной площадке и частенько выручавшую с детьми: в будни могли и с младшенькой погулять, и за старшенькой в садик сбегать. Им не трудно, а молодым крутиться надо, тем более, что любимая ими, как дочь родная, Мариша Лаваневская ждала третьего ребёнка.
***
Сегодня Вениамин гулял с особо гордым видом – вчера, когда он вернулся из очередного рейса, Марина, краснея и смущаясь, как будто в первый раз, сообщила ему радостную новость – в августе у них будет третий ребёнок. Молодой отец не сомневался, что снова родится девочка. На вопрос жены, почему девочка, он ответил без тени смущения, что он не знает, как воспитывать мальчиков, а в воспитании девочек – уже профи! Он и имя для неё сразу же придумал: если уже есть Валя и Вера, то эта крошка пусть будет Вика. «Пусть, – подумала Марина, прижимаясь к любимому мужчине и млея от его заботы, – а если будет мальчик, то будет Виктор, хотя девочка – привычнее, безусловно».
Вениамин стоял около памятника, слегка покачивая просыпающуюся малышку и глядя на боевую машину, прошедшую огонь и воду. В груди щемило от радости, какая возможна лишь при чём-то глобальном, чём-то таком большом и весомом, что её, радость эту, трудно рассказать – её возможно лишь чувствовать, и любое слово губительно для неё. В памяти всплыло, как они, мальчишки-подранки, глазели на въезжающий на постамент танк, как вскидывали руку, салютуя по-пионерски, как клялись друг другу умереть за мир во всём мире. Почти двадцать лет прошло. И оплот мира, белея огромными буквами, уже взгромоздился на самый верх новостройки и воспринимался совсем по-другому – не как реальность, а как пафос, выпирающий из-за каждого угла и бьющий изо всех орудий. Тогда он, совсем ещё зелёный пацан, мечтал совершить подвиг, готов был на поступок, а сейчас… К чему сейчас, когда у него есть замечательная семья, он готов? Готов умереть за Родину, как тогда, в детстве? Веня криво усмехнулся от такой мысли, посмотрел на славное личико Верочки. Назавтра снова обещали холода, но сегодня ему посчастливилось погулять с дочуркой. Вера, укрытая поверх комбинезона пуховой шалью, снова крепко уснула, убаюканная укачиваниями отца. Первый месяц года, неуверенно цепляясь за экватор, мелко рассыпал снежную крупку, даря отдохновение от морозов.
Одернув ещё крепкое, но устаревшее благодаря врывающимся в жизнь новым модным веяниям выходное пальто, Вениамин покатил Веруню домой, мечтая о тарелке наваристого борща и объятьях Маришки. Чёрт с ним, с пальто, не оно делает его счастливым, а улыбка человечка в коляске, ямочки на щеках Валюшки, тепло рук жены и расцветающая в ней жизнь. А пальто… Веня поморщился, вспомнив, что сегодня ещё обещалась быть подруга детства Марины – Лариса, или, как она себя неизменно именовала, Ларсон. Общение с этой мадамой вносило порой смуту в ровное течение их застолья, но раз жена её привечает, то пусть приходит, в конце концов, всё какое-никакое разнообразие, хоть и пестрит зачастую в глазах от её модных выкрутасов и шумит в ушах от громогласных речей.
«Чтобы в семье был лад, друг другу надо уступать и делать всё обоюдно. Мариша у тебя и красавица, и рукодельница, и в общении приветлива, с такой по жизни приятно и любо-дорого идти. Береги её, сынок, не обижай», – такими словами напутствовала его мать на свадьбе, эти же слова слетели с её губ, когда она покидала бренный мир, и ещё просила, чтобы они в честь неё детей не называли – пусть свои жизни живут, радостные и счастливые, под своими именами, только для них предназначенными. Так Варвара Лаваневская, мать Вениамина, закончила свои земные дни, а в имена девочек неизменно перекочёвывала только первая буква её имени – ну, не мог он совсем отказаться от подобного увековечивания памяти матери. Отца своего Веня плохо помнил, разве что лицо на фотокарточках порой освежало память или собственное отражение в зеркале – похож был очень на него.
Однажды, ещё в подростковом возрасте, он подступился к матери и выспросил, что скрывает она про отца, какую правду, но скрывать Варваре было нечего – вспоминать было тяжело, как мужики из его цеха толпой пришли и, не смея поднять голов, долго топтались у порога, а потом рассказали, как сорвался во время ремонта пресс. Узнав эту тяжёлую историю, Веня впервые закурил. Он глотал едкий дым, давился, кашлял, размазывал по щекам слёзы, представляя, как от до ума помрачительного красавца (именно так и говорила мать про отца – до ума помрачительный) осталось лишь то, что ниже пояса, как его хоронили в закрытом гробу, как убивалась она по нему, как потом на долгие годы осталась одна, поднимая на ноги сына, изо всех женских сил стараясь, чтобы у него было всё, а особенно – возможность учиться. Говорили они мало – до того ли было? – и Веня постоянно испытывал нехватку в общении, иногда от этого начинала зудеть кожа – так хотелось обсудить то одно, то другое с вечно пропадавшей на работе мамой, но – не удавалось. И Веня злился и несколько раз даже выговорил ей, что она его не понимает и не хочет понимать. Каким-то чудом ему удалось избежать дурного влияния, хотя соблазнов было много, и только пристрастие к куреву прочно ворвалось в жизнь и оставалось до сей поры.
Отряхнув возле подъезда снег с пальто и ботинок, Веня вкатил коляску на второй этаж, затем аккуратно заехал в достаточно просторный коридор двухкомнатной квартиры. Тихо скрипнули надраенные до блеска деревянные полы. В нос ударили запахи с кухни. На цыпочках, чтобы не разбудить ещё спящую Веруню, он прошмыгнул в комнату. Валюшка сладко дремала на диванчике, поджав под себя ноги и уткнув кулачок в щёчку. Марина неспешно, стараясь не греметь, собирала на стол.
– Умаялась? – шепнул Веня, приобнимая жену и кивая в сторону спящей дочки.
– Да, ещё как! Сегодня она была особенно усердна, так старалась, что два раза воду из таза проливала на пол, такое тут море было, что хоть подлодку запускай! – Марина отложила в сторону чайные чашки. – Пойдём на кухню, покормлю тебя, а то с гостями опять голодный останешься.
В противовес коридору кухня была маленькой – там с трудом уживались вместе газовая плита, кухонный сервант с резными дверками и небольшой стол. Одностворчатое окно слабо пропускало дневной свет, который летом терялся в густой зелени растущих напротив деревьев, а зимой стремительно таял, ускользая за угол дома и перебираясь к окнам комнат. К кухне прилепился туалет с до неприличия скромной ванной, втиснутой туда вопреки всем законам физики. Новенький стройный холодильник системы «Бирюса», сменивший своего пузатого, громко ворчавшего предшественника, мирно делил коридорный угол, прижимающийся к кухне, со старенькой, но безупречно работающей стиральной машиной «Ока-7». Эту машину, обветшалого цвета, то ли голубого, то ли бирюзового, Веня помнил с самого раннего детства. На ней стирала ещё его мама, а теперь, не зная хлопот, стирает и Мариша. Несмотря на то, что при работе машина утробно гудела, избавляться от неё не собирались – на недавно выпущенные народ жаловался, мол, то тут потечёт, то там забарахлит, а эта… От добра добра не ищут.
***
К четырём стали собираться гости. Первыми пришли соседи: Ульрих Рудольфович и его жена – тётя Саша. По обыкновению – со свежеиспечёнными пирогами. Потом в коридор вплыла Ларсон, важно неся свои неудержимо нарастающие килограммы и запрещающая называть себя Ларисой, Ларой или, что ещё хуже, – Ларочкой, а следом за ней, в одни двери, подоспел и Тимофей с женой Катей. Вручив сумку с салатами хозяину, Тимофей с порога закричал:
– А где моя Пуговка?
С криком «я здесь!» из комнаты выбежала, протирая сонные глазёнки, счастливая Валюшка, и Тима подхватил её, закружил по коридору и крепко прижал к себе.
– Когда сами-то уже решитесь? – крепко пожимая руку товарища, словно они не виделись лет десять, спросил Веня.
– Нам и твоих девчонок хватает, а мы пока для себя поживём. Правда, Катюш? – эмоции переполняли Тимофея каждый раз при виде девчушек счастливой супружеской пары, и он не замечал мечтательного взгляда стройной, что твоя берёза под окном, Катерины. – А где малышня-карандашня?
– Она с тёть Сашей. Давайте проходите уже, – чуть подгонял Вениамин вошедших приятным баском. Он был на полголовы выше своего закадычного друга и выглядел очень внушительно. Марине, выглянувшей в коридор, вдруг показалось, что он вырос из этой квартиры и из этого старого дома. Сейчас он был словно герой из другого мира, случайным образом попавший сюда. Мысль Марину с одной стороны позабавила, а с другой немного напугала. «Да, ожидание нового жилья делает меня мнительной», – подумала она, забирая у соседки Верочку.
Все расселись за круглым, ещё довоенным столом с массивными рельефными ножками и внушительной столешницей. Притягивал взоры главный атрибут дома Лаваневских – натёртый до блеска самовар, высившийся над напоминавшим ромашковое поле столом: по бледно-зелёной скатерти рассыпались усеянные цветами блюдца, чашки, тарелки. Всё до безупречности белое. Самовар щеголял своим носиком, словно приглашал каждого в царство душевных разговоров, тулово его, покоящееся на резной шейке, источало тепло, и, казалось, что хватки, симметрично венчающие крышку, вот-вот готовы были пойти в пляс от радости, что за столом вновь собрались гости.
Валя, по обыкновению, облюбовала себе место рядом с дядей Тимой. Долго сидеть за столом ей не разрешат, а потому надо успеть насладиться моментом и задать мучающий вопрос, а что он ей сегодня принёс? Ведь он обязательно что-то принёс, просто забыл отдать. Пока взрослые раскатывали беседу, примеряясь к темам, Валя улучила момент и, потянув за рукав дядю Тиму, тихонечко спросила:
– А ты мне сегодня что-нибудь принёс?
Тишина, случайным образом нависшая в этот момент за столом, вычленила шёпот девчушки, и все повернули головы в её сторону. Тимофей сначала обескураженно посмотрел на неё – подарка-то сегодня он (вот недотёпа!) и не захватил, потом обвёл хитрым взглядом всех остальных и торжественно достал из нагрудного кармана пиджака шариковую ручку в чёрном корпусе с золотистым опояском. Он нажал на кнопку, и появился кончик стержня, снова нажал – стержень исчез. Валя сжала подарок в кулачке и спрятала за спину, шепнув «спасибо».
Ларсон, полная красотка с идеально прямым носом, тоненькими, вопреки моде, бровями, покручивая на среднем пальце левой руки массивное золотое кольцо с огромным красным рубином, недовольно буркнула:
– Ну и воспитание!
Вениамин зыркнул на неё, но ничего не сказал. Марина тем временем, передав ему Верочку, позвала Валю на кухню, чтобы якобы помочь принести забытый хлеб. Там она погладила дочь по голове и, вздохнув, выдавила из себя:
– Солнышко моё, верни ручку дяде Тиме и не выпрашивай больше подарков. Это некрасиво. Что о нас люди подумают?
Валя вернулась в комнату, изо всех своих силёнок сдерживая слёзы, поставила хлеб перед Ларсон, подошла к дяде Тиме и молча протянула ему ручку. Тимофей смотрел не понимающе, смешно вращая головой на тонкой шее в разные стороны. Он был похож на маленького ребёнка, который очень любит делиться, но которому только что сказали, что его игрушки никому не нужны. Лицо с острым подбородком, и без того бледное и тонкое, стало ещё бледнее и вытянутее. Обычно прищуренные глаза распахнулись во всю ширь, и взгляд их был настолько пронзительным, что все замерли и всё замерло, казалось, сам воздух перестал двигаться. Взъерошив непослушные светло-русые волосы и упрямо мотнув головой, Тима воззвал чуть ли не к самим небесам:
– Эй, народ, я не вкурил, что плохого в том, что ребёнок попросил подарок. Это же нормально, или я чего-то не понимаю?
– Валюша, поиграй в маленькой комнате, хорошо? – Веня поцеловал дочь в макушку и легонько развернул её в нужном направлении. Тётя Саша забрала младшенькую и ушла вслед за Валей. Ульрих Рудольфович сквозь толстенные стёкла очков уставился на съёжившуюся Катю, двумя руками вцепившуюся в белизну чашки. Марина чуть не заревела, собравшись кинуться следом за детьми, но подавила в себе все позывы. Накалять обстановку не хотелось. Вениамин понимал, что сейчас от него как от хозяина зависит многое. Скандалов в его доме никогда не было, не будет и в этот раз. «Ну и воспитание» ещё носилось в воздухе, отец двух дочерей ещё решал, чем ответить, чтобы сохранить мир и покой, как неожиданно для всех заговорил обычно помалкивающий Ульрих Рудольфович:
– Позвольте мне, молодые люди, как познавшему трудности воспитания с разных сторон и разного возраста, – он говорил с едва заметным акцентом чуть надтреснутым голосом, обладающим тем не менее мягкими нотками, – и даже в разных странах.
Катерина распрямила спину, поставила чашку на стол и с интересом уставилась на немца, которого она, как ей казалось, побаивалась, особенно её пугала его гладкая блестящая лысина, слившаяся со лбом, съевшая почти всю голову и позволившая лишь скромной седой ленточке подпирать череп сзади. Меж тщательно выбритых впалых щёк высился нос, тонким, чуть горбатым хребтом разделяющий бледно-голубые живые глаза и достигающий своего пика над впадиной рта. Марина забыла про слёзы – она многое знала из жизни соседей – они были очень дружны, и тётя Саша, Александра Ивановна, частенько рассказывала ей о житье-бытье с бывшим военнопленным, сам же Ульрих мало что говорил, больше любил слушать. Ларсон, внимательнейшим образом изучая тёмную роговую оправу говорящего, изготовилась слушать, она подхватила руками правую ногу и с трудом водрузила её на левую. Александра, услышав голос мужа, так редко говорящего о себе, вышла из маленькой комнаты и всей спиной привалилась к дверному косяку, не забывая вполглаза присматривать за детьми.
– Я плохо вижу с детства, и очки мало мне помогают, но в конце сорок третьего меня призвали послужить Германии. Война Гитлера затрещала по всем швам, и подгребали всех, кто стоял на ногах хоть сколько-нибудь уверенно. Меня должны были распределить на службу при штабе, но… На тот момент я был женат, и у меня было двое детей, сыновья Дитмар и Карл. Первое имя означает известный человек, а второе – свободный. Им было пять и шесть. Погодки. Оба рыжеватые, как я, – он усмехнулся, проведя по лысине рукой от лба к затылку, – с голубыми глазами. Мы не были зажиточной семьёй. Я учитель истории, жена работала домохозяйкой, а мальчишки постоянно что-то просили. Was hast du heute mitgebracht?*. Так кричали они, когда я возвращался с работы, и тянули ко мне руки. В эти моменты в их глазах жила надежда, что их мир расцветёт чем-то новым, пусть совсем незначительным, но новым. Когда мне нечего было им дать, я снимал очки – не мог видеть их разочарованных глаз. Разочарование – самое страшное, что может случиться в жизни ребёнка. Перед отправкой на фронт мне нечего было им дать: всё казённое, чужое, неудобное. Я тогда две пуговицы с рукавов от-шпин-до-рил, так говорил один из охранявших нас солдат, когда мы не далеко отсюда строили дом, – Ульрих Рудольфович, справившись с коварным словом, махнул рукой в сторону окна и взволнованно посмотрел на окружающих: завороженно слушала Катерина, теребила кружево на платье, немного нервничая, Александра, замерла на краешке стула Марина, внимательно глазели на него два закадычных друга, подперев на один манер подбородки кулаками, и даже Лариса-Ларсон перестала пялиться на его старомодные очки и смиренно опустила глаза. – Там, вот Александра помнит, она мне и рассказала, церковь* раньше была, её взорвали в сороковом, до войны ещё. Я так и не понимаю, зачем разрушать красоту? Можно не верить в бога, но нельзя не поклоняться красоте. Красота не подвластна меняющимся человеческим богам… Но вернусь к пуговицам. Я вложил их моим мальчикам в ладошки и сжал их кулачки, как будто отдал часть себя… Видели бы вы, как сияли их глаза! Почти сорок лет прошло, но этот свет помню до сих пор, а то, что меня наказали за несоответствующее отношение к форме, давно позабыл. Если бы не этот свет, свет их глаз, то как бы я встретил известие о моей семье, пришедшее из Германии?
Ульрих Рудольфович снял очки, худыми пальцами с редкими белыми жёсткими волосками протёр глаза, беспомощно посмотрел на жену, молча, не надевая очков, встал и грузно протопал в сторону выхода. Его тяжёлая походка никак не вязалась с хрупкой фигурой. Казалось – дунь, и слетит одуванчиковый пух с окоёма головы, и переломится полый стебелёк, но поступь выдавала в нём иную, более живучую, сущность. Ссутулившийся от времени, но старавшийся держаться прямо, Ульрих Рудольфович всем худосочным складом своим был похож на мать, истинную баварку, уроженку югов Германии, знававшую до замужества, что такое достаток, и наученную отцом своим обращаться с виноградной лозой. Как и мать, Ульрих был тонок лицом и костью, но всё нутро его, всю сущность держал тот стержень, что достался ему от отца, чьи предки покоряли с самых тёмных времён северные моря, расчищая себе дорогу приземистыми, кряжистыми, почти бесшеими фигурами, не страшась ни дьявола морского, ни чёрта земного, ни ада, ни рая. Романтичность матери под стрекот цикад и кузнечиков, под игрища свисающих, словно гроздья винограда, звёзд, под лёгкие ритмичные баварские напевы с шуточными щёлканьями хлыста и танцевальными боями фермеров одержала победу над северными ветрами, гнущимися мачтами, судорожными криками чаек, и неуёмная жажда завоеваний в Ульрихе обратилась страстью к истории, такой же неистовой, как морской шторм, и такой же притягательной, как утренние звёзды.
Старый немец, волею судьбы не просто обрусевший, но нашедший в России то большое и великое, что ищут многие, да немногие обретают, обернулся, ухватившись левой рукой за косяк, а правой нацепляя очки на переносицу, одобрительно взглянул на Тимофея и проскрипел:
– А ручку верните ребёнку. Неправильно это – гасить свет в её глазах.
После этого он вышел из комнаты. Слышно было, как скрипят узкие деревянные половицы, как поворачивается замок, как хлопает входная дверь. Александра Ивановна каждой косточкой, каждым нервом ощутила, как где-то в далёком море, на котором она никогда не бывала и вряд ли будет, ветер погнал волну, растревожил чаек и вбросил на корму комья солёной воды. Она смахнула непрошенные слёзы, виновато гладя на Марину и Вениамина. За окном тихо шёл снег, было безветренно, словно погода внимала речам человека и боялась нарушить искажения времени, предоставляя людям возможность самим решать их условности.
– А какие известия пришли из Германии? – невольно выдохнула миниатюрная Катя, втянула голову в плечи, будто ляпнула что-то не то, и скрестила руки, спрятав их в рукава объёмного крупной вязки свитера. Александра Ивановна, понимая, что сейчас мужу нужно побыть одному хотя бы минут пятнадцать, взяла себя в руки, присела за стол, не торопясь налила чай в весёлую чашку и, отпив глоточек, заговорила:
– Он долго не знал, что с его семьёй. Всё надеялся, что жена увезла детей в Северную Вестфалию, в тихий и спокойный Мюнстер, к его родителям, но несколько лет назад мы узнали, что все они погибли при бомбёжке Берлина в конце войны.
– Вы узнали? – встрепенулась Ларсон, театрально вскидывая искусственно удлинённые, тонко прорисованные полосочки бровей, которые вполне соответствовали моде полувековой давности и никак не вписывались в моду сегодняшнюю, густистую и широкополосную, но Ларсон никогда ни под кого не подстраивалась, ей было глубоко плевать, что носят, что читают и как считают, главным её принципом было «чтобы нравилось ей». – То есть он надеялся, что его семья жива, но жил с вами? Так?
Каверзный вопрос не смутил Александру Ивановну, и тихая её улыбка, словно солнце, прорвавшееся сквозь тучи, озарила комнату.
– Да, так. Всё так, – умиротворённым голосом продолжила она. – Его привезли со стройки к нам в больницу полуживого с двусторонней пневмонией. Врачи уже похоронили его, мол, ничего не сделать, а я продолжала за ним ходить, ставила уколы, кормила с ложечки, меняла бельё, и однажды он в полубреду сказал, что женится на мне, если выживет. Он выжил и сдержал слово. Я была вдовой, и так получилось, что война отняла одного мужа и подарила другого. Он мне моих несмышлёнышей помог на ноги поставить, и мудрее отца я не знаю. За всю нашу долгую жизнь он ни разу ни словом, ни делом не обидел ни меня, ни детей, хоть самому и ох как трудно было.
– Так я всё равно не поняла, а на родину-то к своим он чё не уехал? Он ведь не сразу знал, что они погибли, – продолжала пытать Ларсон, упираясь пышными локтями в стол и наваливаясь на него всей грудью. В декольте пёстро-красного платья сверкнул массивный золотой крест на увесистой цепочке. Александра Ивановна вздохнула, глаза её снова затуманились, ей захотелось покинуть компанию, но отстоять человека, с которым её свела жизнь, она должна была.
– Боялся он, что узнает, что они погибли и он не сможет думать о них как о живых, не сможет представлять, как растут его мальчишки, как мужают, как строят свои жизни без войны. Он боялся, что они погибнут дважды: по-настоящему и в его воображении, – женщина поднялась, долгим испытующим взглядом посмотрела на дознавательницу, огрудившуюся на стол и масляными подзаплывшими глазками буравившую её невысокую, до сих пор стройную фигуру и добродушное лицо с изумительно чистыми синими глазами, поблагодарила хозяев и сказала, что девочек возьмёт к себе на вечер.
Веня переглядывался с совсем приунывшей Мариной, боявшейся пошевелиться и потому до сих пор ютившейся на самом краешке стула. Катерина во все глаза смотрела на тётю Сашу, в её голове только что возник новый образ не только Ульриха Рудольфовича, но и того подневольного завоевателя, что попёр когда-то на весь мир и на их страну. Тимофей крутил в пальцах злополучную ручку, уставившись отрешённым взглядом в окно. Когда Валюшка проходила мимо него, он остановил её и, будто прося прощение за всё неразумное вымахавшее ввысь человечество, ещё раз вручил подарок, проговорив:
– Прости, Пуговка. Это твой подарок, и больше его тебе не надо возвращать.
Он хотел её обнять, но девочка отстранилась, взяла осторожно, двумя пальчиками, ручку, подошла к маме и по-взрослому, очень грустно, сказала:
– Мама, положи, пожалуйста, мой подарок на полку, я потом приду от бабы Саши и буду писать.
Чёрные, так похожие на отцовские, глазёнки ничего не выражали, в унылой фигуре читалась покорность. Но самым страшным, как подумалось Тимофею, было то, что глаза девочки были сухи, в них не было даже намёка на слёзы. Александра Ивановна, держа Верочку на руках, приобняла девчушку и аккуратно, почти бесшумно, вывела её в коридор. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Марина не знала, как попросить Ларису уйти, какими правильными словами это сделать, если, конечно, для такого случая есть правильные слова. Её опередила Катя, несмело предложившая Тимофею отправиться домой.
– Нет! – вдруг надрывно пробасил Вениамин. – Вы как раз должны остаться!
Так сказал или не так сказал, но вырвалось – назад не засунешь, не перепечатаешь. Ларсон вскинула на него невероятно зелёные глаза, изумрудами вспыхнувшие из-под нависших век, поочерёдно оторвала груди от стола и откинулась на спинку стула.
– Какие нежности! Перед ними немецкий недобиток, изменивший не только своей родине, но и своей семье, а они расшаркиваются! Тьфу! Я-то уйду, а вы и дальше тут поминальню устраивайте, язвенники-трезвенники! Ни закусить, ни выпить… Чай-чай… Скукотища! Чай песен не поёт! И, кстати, – крикнула она в сторону коридора, где Александра Ивановна обувала девочек, – не Северная Вестфалия, а Северный Рейн-Вестфалия. Я на историка училась, я знаю, а немец ваш даже название своей родины забыл!
Когда за Александрой Ивановной захлопнулась дверь, Ларсон, закинув в рот шоколадную конфетку и в момент проглотив её, встала и с легкомысленным «бывайте!» вынесла своё тело вместе с демонстрируемыми богатствами в коридор. Все замерли, потом, услышав щёлканье замка, с облегчением вздохнули, а любопытная, как ребёнок, Катя, вытирая слёзы, вспыхнувшие в огромных серых глазах, спросила:
– А крест ей зачем? Она, что, в бога верит?
– Да чёрт ей бог, верит она… Торгашка историческая! Мандатра! Наворовала себе в своём ювелирном и на машину, и на золото, и на шмотьё. Была б мужик, дал бы ей на дорожку пару добрый фонарей, – в сердцах выронил Тимофей, придерживающийся атеистических взглядов, не верящий ни в чёрта, ни в бога, и сжал кулаки.
– Тима, ну, какие фонари! Ты ж и мухи не обидишь, – перебила его Катя и положила прохладную ладонь на его горячие, плотно сцепленные руки, но буря эмоций, вызванная Ларсон, клокотала и требовала выхода, и Тимофей сквозь зубы яростно выпалил:
– Обижу, Катерина, если надо будет, если муха та будет зудеть не по делу и мешать жить, не посмотрю, что крестами увешана, прихлопну, как гадину последнюю!
Катя легонько сжала его пальцы, хотела ещё что-то сказать, но Марина, сама от себя не ожидая, выдала:
– На безверье и крест – вера, но обсуждать за глаза мы её не будем. Не стоит она того, да и не по-людски это.
***
Ночью Марина плакала от того, что так неожиданно произошло в их доме. Ей казалось, что мир рушится, что старые стены не выдерживают накала нервов и яростного сердцебиения. Веня сначала, как мог, успокаивал жену, но потом совсем отчаялся и только гладил её вздрагивающие плечи. Сон сморил его нежданно – он так и не смог наутро вспомнить, успокоилась она или нет.
На следующий день Марина ходила смурная. Веня не знал, как подступиться к ней – опыта налаживания отношений у него не было по одной простой причине: до прошлого дня недопонимания меж ними не возникало, и теперь ему было страшно, что он не справится с ситуацией. Перед соседями было стыдно, хотя Александра Ивановна заверила его, что ни он, ни Мариночка ни в чём не виноваты, что никто не несёт ответственности за поступки других, кроме бога, а они – не боги… Впервые захотелось сбежать из дома – так неуютно было находиться в пространстве, которое копилось и ширилось вокруг молчавшей весь день Марины. Как назло, на улице изрядно похолодало, и выйти под предлогом прогуляться с девчонками не получилось.
Уже вечером, когда дети позапрыгивали в кроватки и, натянув одеяла до подбородков, мирно засопели, он нерешительно спросил:
– Мне завтра в рейс. Дня на три уйдём. Поможешь собраться?
Марина молча достала из шкафа необходимые вещи: сменное тёплое бельё, хлопчатобумажные и шерстяные носки, рубашку – аккуратно разложила всё на столе. Принесла брезентовый рюкзак, также, с видимой аккуратностью, положила его на стол и ушла в маленькую комнату, где беспокойно заворочалась Верочка. Ещё вчера счастливый на все сто процентов отец семейства стал самостоятельно укладывать рюкзак, но рубашку отложил в сторону. Когда Марина появилась в комнате, попросил:
– Дай, пожалуйста, другую, на этой пуговица отвалилась.
Она по-прежнему молча открыла шкаф и бесцельно посмотрела на его содержимое, будто забыла, что ей нужно. Не выдержав тишины, Вениамин скрылся в коридоре, взял сигареты и вышел на площадку. Марина притворила дверцу шкафа, так ничего из него и не достав. В каком-то отстранённом состоянии она достала коробочку со швейными делами, выбрала подходящую пуговицу и, ловко вдёрнув нитку в иголку, быстрыми уверенными движениями пришила её. Потом достала из рюкзака все вещи и переложила всё по-своему, так, как делала всегда – компактно, в боковые карманы уложила электробритву и одеколон, пакетик с зубной щёткой и пастой. Посмотрев на свою работу, удовлетворённо кивнула головой и прошла на кухню, чтобы собрать в дорогу кой-что из провизии.
Веня застал Марину, когда она наливала воду в дорожные фляжки. Он осторожно подошёл сзади и обнял её.
– Родная, давай поговорим. Не могу я так уехать, да и тебе тяжело будет.
Марина развернулась к мужу, подняла голову вверх и всмотрелась в его лицо. От её взгляда, прожигающего насквозь, стало совсем невыносимо. Руки невольно опустились.
– Родная? – еле слышно переспросила Марина, и голос её от долгого молчания заскрипел, как половицы в коридоре. – Ты говоришь – родная… А родных надо защищать…
– О чём ты, Мариша? Разве я тебя не защитил бы, будь такая необходимость? – недоумению Вениамина не было предела.
– Необходимость была, а ты не защитил, – упрекнула его любимая женщина, и от того, что она – любимая, стало горячо в груди, от позвоночника по рёбрам пошла волна жара. Вениамин задохнулся.
– Необходимость?.. Была?.. О чём ты?
– О Ларисе я, – голос перестал скрипеть, обретя свои обычные мягкие очертания, и странно было слышать дальнейшие упрёки в этих очертаниях. – Ты дал в обиду нашу дочь. Ты не поддержал Тиму, когда он сказал, что ничего плохого в том, что ребёнок попросил подарок, нет. Мне пришлось увести Валюшку на кухню и сказать ей, что нехорошо просить подарки, а сегодня она…
Тут Марина захлебнулась давно накатывавшими слезами, голос задрожал, провалился в пустоту, и она, сотрясаясь каждой клеточкой тела, не закончила фразу. Веня прижал жену к себе, всем своим ростом закрыв её от мира. Пока она плакала, он лихорадочно прокручивал в голове вчерашнюю сцену за столом. Да, Тимка за Валюшку вступился, а он… Он как в ступор какой-то провалился и ничего не сказал, выискивая верные слова. Подлюка Ларка! Зачем она ходит в их дом? Трясёт своими нарядами… и всем остальным… Что ей надо? Пусть только ещё раз сунется… хотя после такого ни один здравый человек не пришёл бы… Чёрт с Ларкой! Сейчас его больше всего интересовало, что с Валей? Что она сегодня? Дождавшись, когда Марина перестанет реветь, он спросил:
– Что с Валей? Что случилось?
Марина подняла на него покрасневшие глаза и медленно, словно хотела ошибиться, произнесла:
– Она сегодня не такая, как обычно. Она так со мной говорила сегодня… как будто… взрослая… Ей же ещё нет шести, а в глазах – всё беспросветно и безрадостно. Веня, Венечка, милый, она никогда не была такой грустной.
Он, насколько сумел, неуклюже подбирая слова, успокоил жену:
– Всё образуется, родная. Рано или поздно дети взрослеют. Ты только Ларсон эту не зови больше, хорошо? Нечего ей в нашем доме делать, – Марина часто-часто закивала головой, на сердце мужчины немного отлегло, жар отхлынул, и дышать стало легче. – Вернусь из командировки, и сходим куда-нибудь все вместе. В кино, или лучше в кукольный театр, или в цирк! Хочешь в цирк? Вот и хорошо. Вот и сходим.
***
В рейс уходили вместе с Тимофеем на двух под завязку гружёных машинах. Везли на севера, в Чёрмоз и Майкор, продукты, вещи, книги. Веня любил свою машину – мощный ЗИЛ-131, здесь он чувствовал себя надёжно и непоколебимо, надёжнее, чем царь на троне, которого могли свергнуть, а его – попробуй! Начальство ценило Вениамина Лаваневского: непьющий, ответственный, пунктуальный и, главное, лишних вопросов не задаёт: надо – сделает, сказано – доставит, любую непогоду одолеет, с любой поломкой справится. Кроме этого, он ещё и искренне любил свою работу, пусть нелёгкую и отрывающую от семьи, но зато прилично оплачиваемую, да и, кроме зарплаты, приносящую немало выгод – шоферам, снабжавшим север Пермской области: Чёрмоз, Майкор, Пожву, Орёл и ещё дальше – Берёзовку и Гайны – тоже доставалось от прелестей жизни в виде гречки, сгущёнки, шоколада и прочих «разносолов». В магазинах на прилавках шаром покати, а в их доме всегда разнообразие и достаток, и девчонки всегда хорошо одеты – себе не купит, а им – отказа не было.
Влюбился Вениамин в профессию бесповоротно и окончательно, когда доставлял груз на метеостанцию близь маленького посёлка Тулпан. Это был его первый дальний рейс. До Соликамска худо-бедно дотряслись, а дальше началась трудная и местами едва проходимая дорога через Чердынь и Ныроб – такие маршруты на всю жизнь запоминаются. Они совсем немного не доехали до границы, подпирающей Коми-Пермяцкий округ. Зато как их приняли на станции! Как самых дорогих гостей! Тогда-то Вениамин и прочувствовал край, где родился и вырос, во всей его суровости и необъятности. Тогда-то он и испытал то, что не смог обозначить никакими другими словами, кроме слова благодать. Тайга, холмами расползающаяся в разные стороны, завораживала своими видами, намертво вписывая в память каждую деталь.
Стоял июль, в воздухе носилась мошкара, старающаяся сожрать тебя до основания. Несмело пестрели в высокой траве жёлтые цветы, названия которых Вениамин не знал, и, безымянные, они пленили его как-то по-особенному – так звёзды пленят, имён которых не знаешь. Но особенно впечатлила Веню старая заброшенная церковь*.
Октябрятско-пионерское детство и комсомольская юность заменили ему то, во что тайком верила его мать, хранившая в одном из ящиков комода, под постельным бельём, пару небольших икон, тоненькие свечи, обёрнутые носовым платком, алюминиевые крестики в целлофановом пакетике и тетрадь с десятком написанных от руки молитв – богатства, обнаруженные им случайно и покоробившие его до глубины души, какая только может быть у человека, врывающегося во взрослую советскую жизнь. С того времени он стал стесняться своей матери, избегать её, не принимая и чураясь её веры. На существование этой тайны он повесил вину за то, что мать не давала ему в детстве полноты общения. Но это тихое древнее место с давно поросшими быльём да травами могилами всколыхнуло советские устои…
Тогда, стоя перед старенькой полуразрушенной церковью с зияющими пустотой окнами и просевшим крыльцом, он понял вдруг, что такое вера, и устыдился своих прежних чувств по отношению к тому, что надёжно хранила его мать на дне ящика комода. Вера без подобострастия, без бахвальства и противостояния. Негромкая, простая, горячая. Он стоял перед уцелевшим под давлением времени зданием и молча просил здоровья для матери, стесняясь совершать какие-либо действия, пусть даже просто посмотреть в небо. Стоял, потупив взгляд в землю… Тогда-то и обожгло, и, наверное, тогда и предначертал для него бог Мариночку, вскоре появившуюся в его жизни. И, наверное, тогда же и определил бог, что будет у него много девчонок. Вот только маме так и не достанется его слов, хотя жива ещё была. Жива.