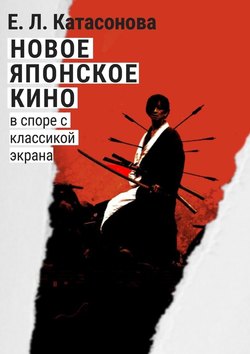Читать книгу Новое японское кино. В споре с классикой экрана - Елена Леонидовна Катасонова - Страница 9
Часть первая. У истоков нового японского кино
Глава VΙ. Технофэнтези Цукамото Синья и его железный человек
ОглавлениеИ все-таки настоящий шедевр киберпанка, самый радикальный вариант из всех существующих в Японии, преподнес зрителям в 1989 г. не Исии, а его младший сотоварищ по учебе в университете – Цукамото Синья, ставший в дальнейшем главным лицом японского киноавангарда. Это был фильм «Тэцуо: железный человек» («Тэцуо», 1989), созданный на стыке научной фантастики и ужасов. О жанре киберпанк молодой режиссер имел тогда самые смутные представления. Зато всем было хорошо известно о его юношеском увлечении фильмами о монстрах – «кайдзю-эйга», самым любимым из которых был первый фильм о Годзилле 1954 г. И потому пресса даже в шутку окрестила его в те годы «чудовищем» (кайдзю). А уже потом, после выхода на экраны ленты «Тэцуо», на долгие годы за ним закрепились такие жесткие определения, как панк и «железный человек». Даже такой известный специалист по японскому кино, как Том Мес, свою книгу о творчестве режиссера озаглавил не иначе как «Iron Man». При этом в академических и справочных изданиях Цукамото уже давно именуют мэтром независимого японского кино или ярким представителем авторского кинематографа Японии. И он действительно сам пишет для себя сценарии, выступает оператором, монтирует свои фильмы, играет в них, причем преимущественно злодеев.
Цукамото Синья (род. в 1960 г.)
Складывается впечатление, что Цукамото готовил себя к этой миссии чуть ли не с самого детства: по крайней мере, в 10-летнем возрасте он начал снимать свои первые фильмы на восьмимиллиметровую камеру, полученную в подарок от отца. Эти пленки, возможно, частично сохранились в семейном архиве, тогда как для широкой аудитории Цукамото впервые представил свои юношеские работы буквально через несколько лет. Тогда начинающему дарованию посчастливилось принять участие в одной из телепередач и показать несколько своих короткометражек по одному из японских телеканалов.
«На самом деле созданию фильмов я учился сам: ходил в кинотеатры и смотрел там множество картин, – поясняет режиссер. – Нельзя сказать, что я научился этому от кого-то. В средней школе я в основном смотрел известные западные картины и ходил в кинотеатры типа „мейга-дза“ в Токио (однозальные кинотеатры, бывшие популярными вплоть до конца 1980-х). В старшей школе я смотрел исключительно японские фильмы. Большое влияние на меня оказали Акира Куросава, Кон Итикава и Тацуми Кумасиро, который работал на студии „Никкацу“ (и снимал фильмы в жанре roman porno)»23. При этом весьма интересен один нюанс. «Я, конечно, очень люблю Куросаву. Все вы знаете, что это корифей японского кино. И в каком-то смысле ортодоксальная фигура», – как бы случайно обмолвился Цукамото в одном из своих интервью24.
Но куда с большей теплотой он отзывается об Исии Тэруо – этом крупнейшем мастере жанрового кино, о его стиле работы и правилах жизни. И много добрых слов говорит о Тэраяма Сюдзи и объединении ATG, где он работал: «Помню, как в старшей школе я посмотрел фильм Тэраямы „Пастораль. Умереть в деревне“ – я был в полном восторге. „Разве так тоже можно снимать кино?“ – подумал я. Он был поэтом, всегда любопытно посмотреть фильмы, снятые поэтом. В своем творчестве я всегда хотел выдержать этот баланс между экспериментальным и развлекательным»25. И так оно, в сущности, и происходит в его творчестве.
В девятнадцать лет Цукамото уже создает свой первый полнометражный фильм, после чего последующие три года посвящает себя изучению живописи в художественной школе при университете Нихон, что было крайне важно для него как для мастера, придающего огромное значение визуальной стороне своего творчества. А после этого потребовалось еще два года, чтобы постичь технические навыки для съемок телевизионной рекламы, к чему будущий мастер на всякий случай также готовил себя.
Именно в это время он и знакомится с молодыми актерами из экспериментальной студии с несколько странным для нас, но не для японцев названием «Театр монстров» («Кайдзю Гэкидзё»), так точно совпадающим с увлечениями самого Цукамото. И это, наверное, тоже было знаком судьбы, предопределившим его долгую и плодотворную работу с этим коллективом и в качестве театрального постановщика, и в качестве кинорежиссера. Сам он грезил тогда идеями «ситуационного театра» и его теоретика Кара Дзюро, популярного в Японии в 1960-е и 1970-е гг. А в кино его вдохновляли в первую очередь зарубежные режиссеры – Дэвид Кроненберг («Видеодром», 1982) и Ридли Скотт («Бегущий по лезвию бритвы», 1981).
И все-таки настоящий шедевр киберпанка, самый радикальный вариант из всех существующих в Японии, преподнес зрителям в 1989 г. не Исии, а его младший сотоварищ по учебе в университете – Цукамото Синья, ставший в дальнейшем главным лицом японского киноавангарда. Это был фильм «Тэцуо: железный человек» («Тэцуо», 1989), созданный на стыке научной фантастики и ужасов. О жанре киберпанк молодой режиссер имел тогда самые смутные представления. Зато всем было хорошо известно о его юношеском увлечении фильмами о монстрах – «кайдзю-эйга», самым любимым из которых был первый фильм о Годзилле 1954 г. И потому пресса даже в шутку окрестила его в те годы «чудовищем» (кайдзю). А уже потом, после выхода на экраны ленты «Тэцуо», на долгие годы за ним закрепились такие жесткие определения, как панк и «железный человек». Даже такой известный специалист по японскому кино, как Том Мес, свою книгу о творчестве режиссера озаглавил не иначе как «Iron Man». При этом в академических и справочных изданиях Цукамото уже давно именуют мэтром независимого японского кино или ярким представителем авторского кинематографа Японии. И он действительно сам пишет для себя сценарии, выступает оператором, монтирует свои фильмы, играет в них, причем преимущественно злодеев.
Складывается впечатление, что Цукамото готовил себя к этой миссии чуть ли не с самого детства: по крайней мере, в 10-летнем возрасте он начал снимать свои первые фильмы на восьмимиллиметровую камеру, полученную в подарок от отца. Эти пленки, возможно, частично сохранились в семейном архиве, тогда как для широкой аудитории Цукамото впервые представил свои юношеские работы буквально через несколько лет. Тогда начинающему дарованию посчастливилось принять участие в одной из телепередач и показать несколько своих короткометражек по одному из японских телеканалов.
И естественно, что все эти авангардные идеи отразились в первом же совместном проекте этого коллектива – сюрреалистической короткометражке «Странное существо обычного размера» («Фуцу сайдзу-но кайдзин», 1986). На самом деле в фильме речь идет опять о тех же кайдзю – японских монстрах из мифов и популярной культуры, а вернее говоря, о железном монстре типа Годзиллы, но размером с человека. И хотя действие фильма укладывается в 18 минут, в этой ленте постановщик успел продемонстрировать практически весь тот набор художественных средств и приемов, а главное – тем, из которых он впоследствии будет складывать свои главные хиты, первым из которых стал «Тэцуо: железный человек» («Tetsuo»», 1989). Это – секс, насилие, устрашающая трансформация человека в киборга и, конечно же, откровенная ирония и самоирония.
«Тэцуо: железный человек» («Tetsuo», 1989)
«Секс и насилие тесно связаны, – комментирует содержание своих картин сам Цукамото, – потому что оба возникают благодаря животным инстинктам. Они являются столько же фундаментальными, как и наша потребность в пище. Я думаю, что они также основополагающие элементы в кинематографе, хотя большинство фильмов стараются скрыть их инстинктивную природу или как-то обелить ее. Именно поэтому я хочу, чтобы она играла важную роль в моих фильмах»26.
В дальнейшем эта картина получила еще несколько продолжений, объединенных общим героем и рассказывающих о людях, мутирующих, как нетрудно догадаться по названиям самих лент, в какие-то невероятные металлические предметы и механизмы. Это – «Тэцуо 2: Человек-молот» («Тetsuo П: Body Hammer, 1992), «Тэцуо: Человек-пуля» («The Ballet Man», 2009), а также близкие им по содержанию «Токийский кулак» («Tokyo Fist», 1995), «Балет пуль» («Барэтто Барэ», 1998) и др.
Но так уж повелось, что прямые продолжения многих фильмов редко бывают лучше оригинала. И это становится очевидным уже при просмотре второго фильма этой серии – «Тэцуо 2: Тело-молот», где опять же речь идет о слиянии человека и металла. Правда, в данном случае преобразование героя в железное чудовище является результатом экспериментов по созданию оружия. И все-таки, несмотря на явный режиссерский повтор, часть из перечисленных лент была номинирована на награды крупных международных фестивалей, в том числе Венецианского 2009 г. («Тэцуо: Человек-пуля»), а лента «Тэцуо: Человек-кулак» получила премию популярного независимого кинофестиваля в Сандэнс.
Чтобы составить общее представление об этой серии фильмов в жанре киберпанк, совсем не обязательно пересказывать содержание каждого из них. А стоит более подробно остановиться на первой работе – легендарном фильме «Тэцуо: железный человек», теперь уже ставшей мировой классикой жанра киберпанк. Мы знакомимся с его героем, шагающим среди страшных безлюдных трущоб с ржавыми провисающими трубами и невероятных свалок металлолома на окраине Токио. Этого парня, роль которого в первом фильме исполнил сам режиссер, прозвали «металлический фетишист», поскольку он буквально бредил современными механизмами, а металл для него заменял человеческую плоть. Веря в абсолютную силу железа, он даже задумывает провести над собой эксперимент по увеличению длины ноги с помощью вживления в сустав трубки от какого-то прибора. Все это происходит в подсобном помещении, заваленном до потолка металлическим мусором: проводами, шлангами, сетками, пружинами, какими-то непонятными железными обрезками и т. д. Но для юноши это – привычная среда обитания, и все, что здесь с ним происходит, тоже не выходит для него за рамки привычного. Вскоре прямо в этой тесной грязной комнатушке он начинает снимать бинты, чтобы удостовериться в удачно проведенной операции. Но с ужасом для себя обнаруживает, что ожидаемое чудо не произошло, и рану разъедают вселившиеся в организм черви. Тогда он с криком выбегает на улицу и попадает под машину. За рулем оказывается преуспевающий молодой бизнесмен, для которого этот несчастный случай становится трагическим началом его физического конца. Стремясь избавиться от улик, он сбрасывает тело пострадавшего в ближайшую канаву. Но тот остается жив и начинает мстить своему обидчику самым невероятным образом, постепенно превращая его в ходячую груду металла. И этот человек с ужасом ощущает, как изо дня в день его голова, лицо, руки, ноги начинают обрастать пружинами, винтами, бурами и т. д. Он прокручивает в памяти все эпизоды этой чудовищной и невероятной трагедии, приведшей к столь страшному концу. Но страдалец не понимает, почему это происходит и, самое главное, – как это приостановить.
Только представьте себе, что в данном пересказе сюжетная линия значительно сокращена, упрощена и адаптирована в расчете на слабонервного читателя. Здесь сознательно упущены многие жуткие физиологические подробности того, как куски железа начинают прорастать в теле человека, как реактивные двигатели заменяют собой отвалившиеся подошвы ног, а мужское достоинство превращается в постоянно вращающуюся на дикой скорости дрель и т. д. Помножьте эти почти гипнотические болезненные видения на черно-белое изображение, усугубляющее мрачное депрессивное настроение ленты, и тяжелую музыку индастриал с ее скрежетом и грохотом, усиливающую общую атмосферу безысходности и т. д. И тогда можно будет получить хоть какое-то представление о картине, о которой так много говорили и не перестают говорить сегодня. Почему?
Да потому что этот жесткий и во многом абсурдистский фильм, который на первый взгляд может показаться полным трэшем и психоделикой, имеет глубокий философский подтекст. Он рисует устрашающие перспективы меняющейся на наших глазах и одновременно деформирующую нашу человеческую суть реальность и предупреждает о возможных страшных последствиях ее превращения в кибернетический, а сегодня – и в цифровой ад. Тем самым японский арт-хаус, по сути дела, затронул очень важную и актуальную и в наши дни проблему соблюдения баланса между человеком и технологиями, необходимости сохранения в людях человеческого начала.
Эта тема стала необычайно актуальной в 1980-е гг., которые стали для Японии весьма успешными: страна переживала небывалый экономический подъем, сопровождавшийся очередным витком развития новых технологий и общим ростом благосостояния людей. Однако ощущение надвигающегося духовного кризиса, вызванного этим дисбалансом, буквально витало в воздухе. Об этом, в сущности, и сам фильм.
Но не только философское содержание, но и визуальное наполнение картины также выглядит крайне непривычным и даже по-эстетски революционным. «Готовясь к съемкам, – писал режиссер, – я впитал в себя все то, что было в культуре андеграунда того времени»27. А еще в те годы Цукамото серьезно увлекался работами немецких экспрессионистов и итальянских футуристов, любил просматривать на досуге старые черно-белые фотографии в жанре «ню». Наверное, именно отсюда проистекают многие художественные особенности картины, напоминающей по своей стилистике немое кино: несколько гротескный грим актеров, высокий контраст света и теней, практически полное отсутствие диалогов, которые заменяются различными звуками: скрежетанием приборов, шепотом и стонами людей, телефонными звонками и т. д. Все это служит созданию атмосферы всепоглощающего физиологического ужаса, которое буквально начинает разъедать наше художественное сознание.
Конечно же, следует признать, что эта знаменитая лента, как и многие другие работы Цукамото, – это кино не для всех. Да и сам режиссер откровенно признает это: «Мои работы не для широкой аудитории. Я думаю, что зрители тех лет определенно смотрели на фильм как на нечто особенное, уникальное и интересное, иногда воспринимали происходящее на экране с удивлением»28. А еще он любит вспоминать о первых просмотрах этой картины, которые проходили в маленьких токийских кинотеатрах, переполненных до предела зрителями, и не без гордости отмечать, что тогда это был настоящий успех29. Однако в реальности лента не получила столь уж широкого резонанса у себя на родине и была воспринята достаточно прохладно в среде японской художественной интеллигенции, не принявшей авангардистских и эстетских посылов режиссера.
При этом за рубежом фильм собрал множество наград: как лучший фильм на фантафестивале в Риме, приз зрительских симпатий на Шведском фестивале фантастических фильмов и т. д. Так к начинающему японскому режиссеру пришла первая мировая известность: его стали приглашать и как конкурсанта с его фильмами, так и в качестве члена жюри на международные кинофестивали, причем даже на такие престижные, как Венецианский. А вслед за этим одно за другим посыпались заманчивые предложения от крупных японских кинокомпаний поработать в мейнстриме и т. д. И Цукамото даже рискнул однажды попробовать себя в коммерческом кино, сняв в 1991 г. картину «Харуко», спродюссированную кинокорпорацией «Сётику». Но это не было его художественной стихией, и мастер вновь возвращается в свой привычный мир малобюджетного авторского кино.
В 1995 г. он снимает свой знаменитый фильм «Токийский кулак» («Tokyo Fist»), который, по словам режиссера, «совместил в себе искусство и развлечение»30, хотя, по существу, он продолжает всю ту же тему человека и машины на фоне вечных проблем любви и ревности. В данном случае речь идет о любовном треугольнике и о соперничестве за любовь девушки двух бывших друзей-боксеров, один из которых в порыве гнева превращается в боксирующую машину для убийств. Но не только этим привлекает фильм. В нем впервые ярко обозначилась еще одна важная тема в творчестве режиссера – человек и город, плоть и бетон, к которой в дальнейшем Цукамото не раз обратится в своих фильмах.
Когда-то режиссер раскрыл один из своих главных секретов: «Я всегда снимаю фильмы о том, чего боюсь больше всего, мой собственный страх становится основой сюжета»31. И это можно ощущать в его фильме «Июньский змей» («Рокугацу-но хэби», 2002), сочетающем в себе триллер, драму и детектив. Эта работа, к съемкам которой Цукамото готовился почти 15 лет и все время откладывал их по разным причинам, была отмечена специальной премией Сан-Марко и премией Kinomatrix на Венецианском кинофестивале 2002 г.
Лента рассказывает историю одной семейной пары. Она – Тацуми Ринко – работает в службе психологической помощи и по телефону помогает тем, кто отчаялся в жизни и думает совершить самоубийство. Он – преуспевающий бизнесмен. Все в их жизни вроде бы хорошо, стабильно, но, с другой стороны, обыденность, монотонность, быт убивают чувства. И вот однажды таинственный незнакомец – один из тех, кому она кода-то спасла своими советами жизнь, – сначала присылает ей конверт с фотографиями ее мужа, запечатленного в постели то ли с ней самой, то ли с другой женщиной – изображение нечеткое. Затем она получает свои снимки, сделанные в те моменты, когда она даже не могла предположить, что ее снимают. А затем начинается откровенный шантаж: Ринко приказывают по телефону то нарядиться проституткой, то танцевать голой под дождем и т. п. И героине это нравится: она, наконец, раскрепощается, исполняя чужие фантазии и тайные желания и одновременно с этим познавая собственные. Но вот достигает ли она полной психологической и сексуальной свободы – остается загадкой.
Цукамото снял фильм с совершенно очевидным фрейдистским подтекстом. Его содержание выражает предпосланный к ней слоган: «Давай вместе отправимся в ад!». И хотя складывается впечатление, что героиня, в конце концов, пройдя через унижения, стыд, страх, реализует свои тайные желания и раскрывает себя, фильм снят в мрачной сине-белой гамме. И оттого его атмосфера получилась тяжелой, гнетущей, давящей и безысходной, а символом происходящего становится постоянно идущий в июне дождь. Вообще, воды и ее образов в картине очень много.
При всей непохожести на «Тэцуо: железный человек» в фильме опять, хотя и косвенно, обозначена тема технического прогресса. Взять, к примеру, все тот же аппарат, благодаря которому можно вторгнуться в частную жизнь человека и сломать ее. А еще Цукамото по-прежнему волнует тема урбанизации, превращающей мегаполисы в самодостаточные организмы, не нуждающиеся в людях и живущие своей самостоятельной жизнью, постепенно подчиняющей себе своих жителей.
«Тогда меня беспокоила еще и тема взаимоотношений человека с городом – это можно назвать одним из частных проявлений темы человека против технологий», – рассказал Цукамото в недавнем интервью для московской публики, организованном в связи с показом его фильма «Тэцуо: железный человек»32. И все-таки основное внимание в картине приковано к персонажам, к теме отчуждения человека в современном мире, бесконечным проблемам человеческого одиночества, тайным и неосознанным желаниям.
Страхи, причем по большей части коллективные, постепенно заполняют творчество режиссера. Это ярко проявляется в таких его лентах, как «Кошмарный детектив» («Акуму тантэй», 2006), где речь идет о бродяге и его уникальной способности проникать в чужие сны, а также о женщине-полицейском, которая заручается его помощью, чтобы поймать серийного убийцу. По замыслу Цукамото этот хоррор-триллер должен быть стать последним фильмом в его карьере, где он будет исследовать тему трансформации человеческого тела и сознания, после чего мастер планировал сменить свой излюбленный жанр и перейти к чему-то иному – романтической комедии и т. д. Но снятая в 2010 г. картина «Котоко» (2010), минималистская и по режиссуре, и по сюжету, полностью опровергла эти творческие планы. Неожиданно для себя Цукамото обратился к биографии известной японской поп-певицы, сделав особый акцент на показе ее постоянных нервных срывов из-за необходимости постоянного ухода за маленьким сыном и болезненной раздвоенности сознания, толкающем на необдуманные поступки. И только в 2014 г. в «Пожарах на равнине» («Ноби») мастер в действительности впервые обратился к совершенно новой для себя теме войны.
Этот фильм снят по одноименному роману Оока Сёхэй, который в 1959 г. уже экранизировал Итикава Кон. По сюжету, деморализованные солдаты разбитой японской армии в конце Второй мировой войны пытаются выжить на одном из Филиппинских островов, скитаясь по джунглям и теряя последние остатки человечности. В романе после пережитых ужасов главный герой приходит к религии. Но для Цукамото куда важнее «само противопоставление неописуемой по красоте природы и человека, который вынужден был на войне расстаться с человечностью»33. Вот что сегодня режиссер говорит о войне: «Меня беспокоит, что в последнее время в японском обществе все чаще говорят о возможности войны. Каждый год я отвечаю на запросы кинотеатров о показах фильма „Пожары на равнинах“, приуроченных к годовщине окончания Японией Второй мировой войны. Мне кажется, что это очень важная деятельность, я хочу, чтобы люди глубоко понимали всю суть проблемы. Вот этим я тоже сейчас занимаюсь»34.
По-видимому, Цукамото имел в виду свою новую и первую в его фильмографии картину о самураях, съемки которой проходили в 2018 г. Ее события происходят в конце эпохи Эдо, но идеи и мировоззрение героев созвучны сегодняшнему дню. Ключевая сцена этого фильма – молодой человек долго смотрит на меч и размышляет о том, почему в нашем мире он воспринимается, прежде всего, как орудие убийства. Так, начав свое творчество с тяжелых раздумий о технологических опасностях, нависших над современной цивилизацией, Цукамото в своем зрелом творчестве приходит к не менее важной для себя теме – трагедии войны и ее губительных последствий для человечества. Но это будет потом.
А в 1990-е гг. эти и другие всевозможные страхи, причем в первую очередь всякого рода урбанистические, техногенные, экологические, стали стремительно проникать в японское общество и заполнять собой японские экраны. Но, наверное, в первую очередь людей пугали экономические трудности, связанные с тем состоянием стагнации, в котором пребывала страна, начиная с 1997 г. Они растянутся еще на десять лет и усугубятся мировым финансовым кризисом. Причем последствия этих событий проявят себя не только в экономической плоскости, но и в социальной, ментальной, культурной и других сферах.
Понятно, что экономические потрясения – это всегда эмоциональный всплеск, возрождение критических настроений в обществе, изменение культурных и духовных ориентиров людей, их эстетических оценок и т. д. И все это наложилось на настроение всеобщей растерянности, порожденной тревожными предчувствиями в связи с наступлением нового тысячелетия, что по обыкновению царит в любом обществе на стыке веков. В этих условиях едва ли не единственным духовным и эмоциональным пристанищем для многих становятся всевозможные фантастические сюжеты.
Так было в Японии всегда и даже в далекие времена Средневековья, когда удивительные истории о чудесах, привидениях, всевозможных таинственных оборотнях, написанные в жанре кайдан, отвлекали простых граждан от многих жизненных проблем и переживаний. Правда, с тех пор так называемые коллективные страхи претерпели кардинальную трансформацию. На эту тему можно рассуждать долго и по-разному, но важно одно: в 1990-е гг. в Японии получил новое обличье и новый виток популярности любимый в этой стране жанр ужасов. И вскоре он, преодолев национальные границы, стал модным кинематографическим трендом ХХI в., получившим название J-horror.
23
Дмитриева И. Синья Цукамото: Тэцуо, железо, город и плоть // Сигма. 04.02.2018. https://syg.ma/@ira-dmitrieva/sinia-tsukamoto-intierviu (дата обращения 20.03.2018).
24
Там же.
25
Там же.
26
Режиссер Цукамото Синья // Dorama TV https://dorama.live/list/person/tsukamoto_shinya (дата обращения 20.05.2018).
27
Дмитриева И. Синья Цукамото: Тэцуо, железо, город и плоть // Сигма. 04.02.2018. https://syg.ma/@ira-dmitrieva/sinia-tsukamoto-intierviu (дата обращения 20.03.2018).
28
Там же.
29
Там же.
30
Там же.
31
Там же.
32
Там же.
33
Там же.
34
Там же.