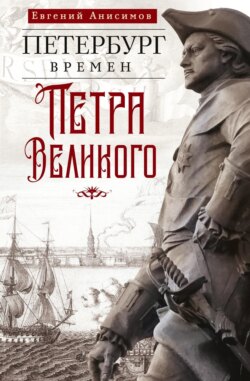Читать книгу Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов, Евгений Анисимов - Страница 13
Глава 1
Основание Петербурга
«Время, время, время»
ОглавлениеПозднюю осень сменила зима, и Петр отложил поход вниз по Неве до весны 1703 г. В ту зиму отряды Меншикова, как сообщала газета «Ведомости», нападали на мызы и деревни в окрестностях Кексгольма и захватили «простых шведов мужеска полу и женска 2000» человек. Уже с середины марта 1703 г. Петр был в Шлиссельбурге и спешно готовился к будущему походу. Он боялся упустить время, не хотел, чтобы шведы перехватили инициативу. 6 апреля он писал Шереметеву, что ждет его с полками и что «здесь, за помощию Божиею, все готово и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после»[42].
23 апреля армия Б.П. Шереметева от Шлиссельбурга двинулась вниз по Неве, по ее правому берегу, и вскоре подошла к Ниеншанцу. Комендант крепости Йохан (Иоганн) Аполлов прекрасно понимал, что силы сторон неравны. Уже в октябре 1702 г. он со своим гарнизоном в 800 человек изготовился к обороне: подготовил все 49 пушки цитадели, а 20 октября приказал поджечь город и казенные склады на берегу Охты. Но русские тогда не пришли, из Риги и Выборга помощи Аполлов не дождался, и 9 апреля 1703 г. он писал королю: «Как только лед сойдет с Невы, противник, вероятно, придет сюда со своими лодками, которых у него имеется огромное количество, обойдет крепость Шанцы и встанет на острие Койвусаари (Березового острова), откуда у него будет возможность препятствовать всему движению по Неве». А 26 апреля Аполлов уже доносил о действиях противника: «Около трех часов он штурмовал бастионы Пая и Сауна. После двухчасового сражения атаку русских отбили… В моем распоряжении 700 здоровых мужчин. Командира полка нет, я сам настолько устал, что меня должны сажать в седло, чтобы я мог проверять построения обороны. Я вижу сейчас, что они идут вдоль берега с развевающимися белыми флагами»[43]. После неудачного приступа войска Шереметева начали рыть апроши и ставить батареи, следы позиций которых, согласно Н. Цылову, сохранялись еще в 1705 году[44]. 28 апреля Петр I во главе флотилии лодок с гвардейцами проследовал вниз по Неве мимо Ниеншанца, с бастионов тщетно пытались огнем этому воспрепятствовать[45]. Так в самом конце апреля 1703 г. Петр в первый раз оказался в тех местах, с которыми впоследствии навсегда связал свою жизнь. Плавание вниз по Неве имело отчетливо разведывательный, рекогносцировочный характер – русское командование опасалось, как бы флотилия адмирала Нуммерса, базировавшаяся в Выборге, не подошла на помощь осажденному гарнизону Ниеншанцу. Поэтому Петру необходимо было знать о силах и расположении шведских кораблей. Лодки дошли до взморья, шведов видно не было, на Витсаари (Гутуевском острове) Петр оставил заставу из гвардейцев и на следующий день, 29 апреля, вернулся в лагерь под осажденным Ниеншанцем.
Первое морское сражение в устье Невы в 1703 г.
30 апреля русскими была предпринята попытка нового штурма, который гарнизон вновь отбил. Нужно согласиться с теми историками, которые считают, что взятие Ниеншанца было достататочно кровопролитным с обеих сторон. Впрочем, было ясно, что крепость обречена. Поэтому комендант Аполлов, исполнив свой долг, перед лицом этого подавляющего превосходства осадного корпуса противника (особенно после продолжительного, 14-часового обстрела и взрыва порохового погреба[46]), согласился на почетную сдачу. Это произошло 1 мая 1703 г. Согласно условиям капитуляции Аполлов на следующий день, 2 мая, вручил на серебряном блюде городские ключи фельдмаршалу Шереметеву и под барабанный бой вместе с гарнизоном, семьями солдат и офицеров, а также сидевшими в осаде горожанами, покинул крепость[47]. Русские вступили в крепость, был устроен праздничный молебен в Шлотбурге – так переименовал русский царь шведский Ниеншанц. Тогда же состоялся знаменитый военный совет, решивший судьбу Петербурга. Историк Г.Г. Приамурский считает, что между названием стоявшего у истоков Невы Шлиссельбурга («Ключ-город») и названием переименованного после взятия Ниеншанца Шлотбурга («Замок-город») существует устойчивая аллегорическая связь (ключ – замок)[48]. Впрочем, скорее всего, слово «замок» читалось с ударением на первом слоге.
Портрет героя на фоне города:
Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев
Когда после очередной военной кампании Шереметев приезжал в Москву или в Петербург его приветствовали как никого другого из генералов Петра I – почти всю Северную войну он был главнокомандующим русской армии, ее старейшим фельдмаршалом! Боярин Шереметев всегда верой и правдой служил государю. Он воевал с турками, татарами, шведами, душил мятежи казаков и стрельцов. Крупный, даже толстый, с бледным лицом и голубыми глазами, Шереметев выделялся среди прочих вельмож своим благородными, спокойными манерами, любезностью и воспитанностью. Петр – государь деспотичный, склонный к непристойным розыгрышам и шуткам над подданными, никогда не позволял себе проделывать их со старым воином.
Однако при всех своих заслугах Шереметев не был выдающимся человеком. Борис Петрович – личность вполне заурядная, неяркая, без воображения и духовных исканий. «Не испытлив дух имею», – признавался он в письме своему приятелю Ф.М. Апраксину. Но зато он обладал другими достоинствами. В нем была та солидная надежность, которая внушает подчиненным уверенность и придает мужество даже в самом жарком бою. Возможно, поэтому Петр и вверил ему свою армию. Шереметеву случалось поступать не так, как хотел государь – человек порывистый и стремительный. Часто царь требовал от Шереметева быстроты, активности, бывал недоволен, когда фельдмаршал мешкал. Письма Петра I к нему полны понуканий и угроз. Но при этом царь не спешил расстаться с Шереметевым. Он знал наверняка, что старый конь борозды не испортит и что российский Кунктатор зря не будет рисковать, не бросится, подобно плебею Меншикову, на авантюры. Шереметев вел «негероическую», но рациональную войну, насколько она возможна в России.
Жизнь этого богатейшего вельможи была тяжелой, изнурительной. Грозный для врагов, он был придавлен страшной ответственностью, все время боялся не только за врученную ему армию, но и за себя. Петр I, используя способности и опыт Бориса Петровича, все-таки чуждался его и не пускал в свой ближний круг. Шереметев вечно страшился прогневить царя, лишиться его милости, пожалований и похвалы. А государеву холопу они всегда так нужны! В письме к секретарю Петра I А.В. Макарову он с тревогой вопрошал: «Нет ли на меня вящего гнева Его величества?» В конце жизни, уже смертельно больной, фельдмаршал боялся, как бы царь не заподозрил его в симуляции, в нежелании судить царевича Алексея Петровича – ведь он в 1718 г. получил строгий указ царя явиться в Петербург и участвовать в суде над наследником. Шереметев слезно умолял, чтобы врачи освидетельствовали подлинность его болезни. Он умер в Москве 17 февраля 1719 г. В завещании он просил похоронить себя в Киево-Печерском монастыре – святом месте, особо почитаемом им. Но государь решил участь покойного иначе: даже последние желания подданных для него ничего не значили. Тело Шереметева привезли в Петербург, и его могила стала первой в некрополе знатных покойников Александро-Невского монастыря. Так, даже смерть старого фельдмаршала, как и прожитая в вечном страхе и трепете его жизнь, послужила высшим государственным целям.
Б.П. Шереметев
42
ПБП. Т. 2. С. 140.
43
Кепсу С. Петербург до Петербурга. С. 110–111; Ведомости. С. 8, 30.
44
Цылов Н. Планы С.-Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840, 1849 годах. СПб., 1853.
45
Петров П.Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по Учреждениям о губерниях. СПб., 1884. С. 35.
46
Кепсу С. Петербург до Петербурга. С. 111–112.
47
Обстоятельства взятия Ниеншанца на основе литературы достаточно полно изложены в кн.: Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. С. 81–94.
48
Приамурский Г.Г. Три века петровской навигации // ПЧ-95. С. 196.