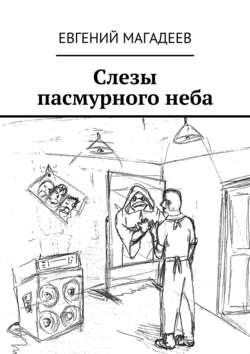Читать книгу Слезы пасмурного неба - Евгений Магадеев - Страница 15
Глава 3
Оглавление***
Намерениям Владыки не суждено было претвориться в жизнь. Пригласив недовольных домочадцев обратно к столу, он подозвал к себе молодого помощника, служившего писарем, и втолковал ему, какого рода послание следует доставить в дом префекта.
– Непременно подчеркивай, что дело срочное, – увещевал юношу Иннокентий. – А будут спрашивать, чего хотим, – отвечай, что тебе это неведомо. Даже не соврешь.
Тот послушно поклонился и рьяно убежал по поручению, но отсутствовал он недолго: еще не успел опустеть самовар, поданный по окончании основной трапезы, как писарь явился перед нами и доложил, что префект отсутствует.
– Вот окаянный, – возмутился Николай, которого к тому моменту успели ввести в курс дела. – Снова поди по бабам поехал.
Иннокентию ничего не оставалось, как умерить амбиции и вместо армии разослать по монастырям гонцов, каковых следовало ожидать назад с вестями не ранее, чем к заходу Солнца. Желая как-то занять себя до их возвращения, я наведался в церковную библиотеку, располагавшуюся неподалеку, и, с определенным трудом добившись разрешения вынести пару книг за стены заведения, отправился в рощу – единственное место культурного отдыха в Белом камне. Словно в пику главенствующей архитектурной задумке, роща была организована на удивление уютно: между тремя фонтанами, два из которых, правда, не работали, пролегали мощенные крупной галькой дорожки, предназначавшиеся для прогулок уставших за день чиновников. Вдоль дорожек стояли деревянные скамейки, намертво врытые в плотную почву – будто у кого-то могла возникнуть мысль унести их отсюда без разрешения.
Пришел я удачно: в это время дня роща была безлюдной, и только две дамы средних лет расхаживали вокруг работающего фонтана, весело переговариваясь между собой. Я расположился на скамеечке по возможности дальше от них и погрузился в изучение грузных церковных томиков, из которых надеялся почерпнуть хоть какие-то намеки на существование Пятого брата или связанной с ним ереси. Первая книга была посвящена апокрифам – но ничего нового в себе не несла. Пролистав главы, повествующие о бесчисленных житиях Отца, я мельком просмотрел ту часть, где говорилось о писании некоего монаха Евдокима, жившего около четырех веков назад и осуждавшего поклонение Матушке и Второму брату: он настаивал на том, что исключительно память усопшего творца по праву достойна упоминания, в то время как молитвы его никчемной родне – отвратительное кощунство. Евдоким, однако, не считал необходимым приводить аргументы в пользу своей точки зрения, всецело полагаясь на слепое согласие со стороны соратников. Его, конечно, не последовало, и незадачливого монаха благополучно забыли сразу после того, как он умер от чахотки. Книга содержала примеры и более удачной религиозной демагогии, но к настоящим событиям они никак не относились.
Второй томик являл собой обширнейший трактат об истории появления официальных церковных текстов, но содержал настолько пространные рассуждения, что я был вынужден закрыть его раньше, чем дошел до интересующего меня текста о Трех испытаниях. В конце концов, мне хватало здравого смысла, чтобы не верить россказням о древних менестрелях, якобы живших при дворе Отца и его семейства, а после – то ли сосланных, то ли направленных сюда с просветительской миссией. Не то чтобы у меня было объяснение получше – напротив, я даже не мог себе представить, каким образом смертные могли бы разведать мельчайшие детали биографии богов без их собственного вмешательства. Но менестрели не упоминались более ни в одном из известных мне источников, да и эта книга деликатно уходила от объяснений, откуда эти персонажи взялись и куда потом делись.
На очереди был потрепанный фолиант, имевший воистину исполинский формат при относительно скромной толщине, но прежде, чем я успел раскрыть его, на обитую тонким слоем металла обложку пала тень, и я обнаружил, что замеченные мною ранее дамы приблизились и теперь выжидали удачного момента, чтобы отвлечь меня от дел. Я намеренно не стал реагировать, надеясь, что они разочаруются и уйдут восвояси, но вскоре одна из них обратилась ко мне, прошлепав своими лягушачьими губами что-то нечленораздельное. Поначалу я не сообразил, что дама заговорила на национальном языке префектуры, и вознамерился переспросить, однако вовремя опомнился. Мне часто приходилось слышать этот далеко не самый благозвучный диалект общепринятого долийского: многие южане считали своим долгом общаться между собой именно на нем, хотя родным он был, пожалуй, только для старожилов самых глухих деревень, названия которых также сохраняли черты самобытности. В их речи я не узнавал ни единого слова и даже не мог убедить себя в родственности наших языков, несмотря на то, что, по уверениям лингвистов, они имели общее происхождение и были крайне близки. Усиленно скрывая раздражение, я попросил даму говорить на долийском – если она, конечно, желает быть понятой.
– Пожалуйста, извините, – наконец последовала внятная речь. – Я не думала, что Вы приезжий.
– И были правы, – буркнул я, но в подробности вдаваться не стал. – Прошу простить мою резкость, но Вы очень обяжете меня, если перейдете к сути. Полагаю, Вас привело ко мне не только праздное любопытство?
– О, отнюдь! Видите ли, дело в моей подруге, но сама она стесняется с Вами заговорить, – при этих словах стоявшая позади дама смущенно отвернулась, будто притворяясь, что говорят вовсе не о ней. – И это не странно: у нее проблема этического характера. Мы подумали, что ею нужно поделиться со священником.
– Я признателен за такое доверие, но в чем, собственно, эта проблема состоит?
– Видите ли, – все же промямлила виновница беседы. – Я позволила себе… неподобающую раскованность в отношении постороннего мужчины, понимаете?
– Изменили мужу? – уточнил я. Она неуверенно кивнула и снова завертела головой по сторонам, абстрагируясь от щекотливой темы. – Вероятно, он обо всем узнал и теперь затаил на Вас обиду? Злится?
– Но я раскаялась! Как ему это объяснить?
– Что ж, для начала попробуйте объяснить это мне. Если бы Матушка не проявляла почтения и верности своему супругу, то как бы он уверился в себе настолько, чтобы создать нас по своему подобию? Нет, он думал бы о том бесславном положении, в котором оказался, и лишь искал бы из него выход. Вдумайтесь – наш мир навсегда остался бы безжизненным! И, быть может, ровно так же, подорвав доверие мужа, Вы обрекли на нерождение целую цивилизацию – смогли бы Вы это объяснить?
– Но… неужели все так… А как же мне теперь быть?
– Вспомните назидание Матушки: «Летопись ваша – бумажная книга, скучною будет – читать не станут»…
– «Лучшие книги читают вечно, лучшие книги не забывают», – подхватила моя собеседница, и вышло это очень кстати: я не был уверен в концовке цитируемого фрагмента. – Я все знаю, Матушку надо радовать поступками. Но могу ли я вырвать несколько страниц из своей книги? Как мне искупить вину?
– Вырвите страницы – и никто уже не пожелает прочесть то, что осталось: какова цена повести, из которой изъяли середину? Пусть лучше середина эта будет дурна, но славное завершение повести навсегда запечатлеет ее в Вашем уме.
– Вы хотите сказать, что мне теперь надо вести себя хорошо – и все забудется?
– Ничто не забудется. Но оно может быть уже не так важно, если впереди многие годы почета, уважения и поддержки, что Вы окажете супругу, с которым имели неосторожность обойтись столь неприятным образом. Будет счастлив он, будут помнить о Вас окружающие, будет довольна Матушка.
Просияв, дама окатила меня приторным потоком благодарностей и пообещала неуклонно следовать полученному совету. Глядя, как подруги степенно зашагали к выходу из рощи, весьма одухотворенные моими наставлениями, я вдруг подумал: «Вот шлюхи!» Но тут же одернул себя: к чему вульгарная грубость, если эти создания придуманы мною самим?