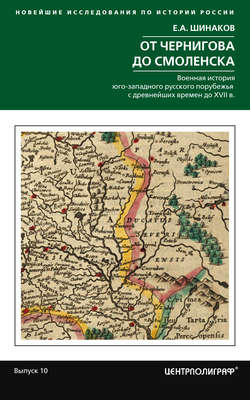Читать книгу От Чернигова до Смоленска. Военная история юго-западного русского порубежья с древнейших времен до ХVII в. - Евгений Шинаков - Страница 4
Часть I
Предыстория и военная история Подесенья в период Древней Руси
Глава I
От первобытности – к славянам
2. За стенами городищ
ОглавлениеК середине первого тысячелетия до нашей эры на Брянщине и сопредельных территориях лесной зоны наступает железный век. Греческий поэт Гесиод (рубеж VIII–VII веков до нашей эры) характеризует его как эпоху чрезвычайной жестокости нравов, коварства, чуть ли не преддверие конца света.
На Брянщине, однако, судя по данным археологии, наступает сравнительно мирная эпоха стабильного развития одних и тех же народов и культур, без крупных их перемещений.
К середине первого тысячелетия до нашей эры (в VIII–VI веках) в среднем течении Десны сложилась юхновская археологическая культура, получившая название от села Юхново под Новгородом-Северским. Северо-запад Брянской области (верховья Десны и Ипути) к этому времени занимают близкородственные юхновцам днепро-двинские (или верхнеднепровские) племена, а юго-запад (бассейн реки Снов и низовья Ипути) – милоградские. Впервые территория области оказалась разделенной на три части тремя племенными группировками, главные центры которых находились за ее пределами. В дальнейшем эта ситуация будет повторяться довольно часто, а пережитки ее сохраняются до сих пор в этнографическом и диалектном делении территории Брянской области.
В настоящее время с достаточной долей вероятности определены имена носителей всех этих культур: милоградцы – невры, юхновцы – будины, днепро-двинцы – андрофаги («людоеды», точнее, «мужееды»). В неврах некоторые исследователи (Б. А. Рыбаков) видят одних из предков славян, потесненных в середине VI века до нашей эры змеепоклонниками – балтами («змеями», по сообщению Геродота). Этот историк дает следующее описание внешности и быта данных народов: «Будины – народ многолюдный; у них всех светло-голубые глаза и светлые (рыжие) волосы. Будины – коренные жители этой страны, они ведут кочевой образ жизни», хотя «земля их покрыта густым лесом разных пород. В обширнейшем из лесов находится большое озеро, окруженное болотами и зарослями тростника. В этом озере ловят выдр, бобров и других животных с четырехугольной мордой». Как видим, описание Геродота как нельзя более подходит к юхновской культуре и лесной Брянщине. «Кочевой» же образ жизни в «густых лесах» может означать не что иное, как занятие подсечно-огневым земледелием, требующим частой смены возделываемых участков и мест обитания. В этой связи вызывает известное сомнение сообщение этого, в общем-то, объективного и сведущего историка о том, что основным продуктом питания будинов (то есть возможных древних предков брянцев) явились «сосновые шишки». «У невров обычаи скифские… Эти люди, по-видимому, колдуны. Скифы и живущие среди них эллины, по крайней мере, утверждают, что каждый невр однажды в год на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик».
«Из всех народов андрофаги имеют самые дикие нравы; нет у них ни суда, ни законов; андрофаги – кочевники. Одежду носит подобную скифской, но язык у них особый. Это единственное племя людоедов в той стране». Судя по данным топонимики (наука о названиях мест), эти три культуры и три народа принадлежали к прабалтам – индоевропейским народам, близким к современным литовцам и латышам, и, возможно, являлись предками жившей на территории Руси, в том числе и брянской ее части, и известной по летописям голяди. Так, на поверку оказываются балтскими по происхождению на первый взгляд так «по-славянски» звучащие названия, как Дорунь (Добрынь), Радутино, Столбянка, Немолодва, Десна, а некоторые имена рек – Болва, Надва – восходят, вероятно, еще к более глубокой (финно-угорской) древности. Происхождение же названия голядь, которое предположительно связывается с уже упомянутыми гелонами Геродота, некоторые исследователи (например, О. С. Стрижак) предлагают искать не в балтских, а в кельтских языках, возводя его к кельтскому племени галатам, жившим в Центральной и Восточной Европе и Малой Азии, или даже к французским галлам, или связывают их с гэлами (каледонцами, или шотландцами). Однако столь дальние сопоставления вряд ли будут являться научно обоснованными, ибо предметов кельтского происхождения на Брянщине не обнаружено. Впрочем, название «невры» с кельтского может переводиться как «мужественные», «отважные»; «будины» – «победоносные», а само размещение этих народов в Подесенье является хоть и возможным, но отнюдь не единственно возможным.
Военные действия, зафиксированные письменными источниками (Геродотом в первую очередь), относятся только к началу раннего железного века, точнее – к 512 году до нашей эры. Будины (точнее, их южная часть – будино-гелоны) подверглись нападению персов, так как выставили воинов в поддержку скифов, а их соседи невры и андрофаги – карательному набегу степных кочевников за отказ помочь им в критическую минуту в борьбе против персов Дария I. Будины и гелоны входили в состав третьего скифского войска (царя Таксакиса), целью которого было не допустить вторжения персов на север.
«Когда скифы перешли реку Танаис, в погоню за ними последовали немедленно и персы, пока наконец не прошли землю савроматов и не достигли владений будинов». «…Вторгшись в землю будинов, персы напали на деревянное укрепление, которое было покинуто будинами, и сожгли его». После отступления персов скифы, решив наказать отказавшие им в помощи лесные племена, «двинулись во владения андрофагов; разоривши и этот народ, они отступили к Невриде. По разорении этой страны скифы бежали к агафирсам». Есть, впрочем, данные, что вторжение скифов и невров носило превентивный характер и относится к 515 году до н. э. Под воздействием возросшей опасности с юга (персы, затем скифы) андрофаги «не взялись за оружие… а, объятые страхом, бежали все дальше к северу в пустыню». Таким образом, кроме прямых вторжений, к видам военных действий VI века до н. э., точнее их последствиям, относятся массовые переселения народов – миграции. Так, «за одно поколение до похода Дария им (неврам) пришлось покинуть всю свою страну из-за змей. Ибо не только их собственная земля произвела множество змей, но еще больше их напало из пустыни внутри страны. Потому-то невры были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди будинов». Примерно в это же время, но уже с юга, а не с запада в землю будинов вторглись гелоны, построившие в их земле свой город. Характер переселения (мирный, военный) письменные источники не освещают, однако, по данным археологии, отношения пришельцев с местным населением (по крайней мере, милоградцев-невров с юхновцами-будинами) далеко не всегда были мирными. Крупнейшие исследователи этих культур О. Н. Мельниковская и Б. А. Рыбаков так доказывают это положение: «Вновь создающиеся на востоке (в соседстве с будинами или уже на будинской земле) милоградские поселки возникают сразу как укрепленные поселения. Количество городищ очень велико, под городище занимался буквально каждый удобный мыс» (Б. А. Рыбаков). Недаром так различались позиции невров и будинов по отношению к персидско-скифскому конфликту.
Что касается различных видов военного дела милоградцев, юхновцев, днепро-двинцев, то как раз о фортификации мы можем судить наиболее полно.
Все три культуры (милоградская, юхновская и днепро-двинская) представлены маленькими укрепленными поселениями диаметром в несколько десятков метров и с населением не больше сотни человек. В этих поселках жили отдельные роды или большие патриархальные семьи. В археологии эти укрепленные поселения называют «городищами», а местные жители величают их «городцами», «городками», «кудеярками» (по имени легендарного разбойника Кудеяра, который хранил якобы на таких городищах свои сокровища), «тарелочками». Для безопасности от различных набегов и нападений врагов они строились на высоком обрывистом мысу либо у реки, либо в окружении лесов и болот, то есть в недоступных для внезапного вторжения местах. Городища обязательно укреплялись с напольной стороны валами и рвами, расположенными иногда (особенно у днепро-двинцев) в два-три ряда. Часто строители усиливали естественную крутизну склонов эскарпами, а по краю площадки ставили частокол или бревенчатые стены. У милоградцев же городища часто имеют правильную геометрическую форму, расположены на ровной местности и имеют несколько укрепленных площадок, причем внешние часто не имели следов жилого использования и могли использоваться, например, в качестве загонов для скота.
Иногда применялись еще более оригинальные конструкции – длинные жилые дома столбовой конструкции по всему внешнему периметру площадки (рис. 4). От столбов этих домов до сих пор сохраняются круглые в сечении «трубы» диаметром свыше 20 сантиметров, а глубиной зачастую свыше двух метров, исследованные при археологических раскопках на городищах у сел Случевск и Синино Погарского района. Столбы располагались в три ряда, на центральный ряд, вероятно, опирался конек двускатной крыши. Ширина подобных «жилых стен» в Случевске достигала пяти метров, а в высоту они, возможно, равнялись двухэтажному дому и имели также два яруса – жилой и боевой. С напольной стороны, однако, и после строительства нового типа укреплений по периметру сохранялись старые, «испытанные» рвы и валы, только где-то в IV веке до нашей эры их глубина и, соответственно, высота (земля для вала бралась изо рва) увеличивается. Со стороны рва находился въезд на площадку городища и располагались ворота в валу (рис. 4).
Подобная планировка укрепленных поселений была очень удобной при отсутствии постоянного войска в небольшом родовом коллективе – глава каждой небольшой, «парной» семьи нес, вероятно, ответственность за «собственный» участок жилой стены, который он и должен был защищать в случае внезапного нападения, поднявшись на нее непосредственно из своей «квартиры». Кроме того, подобное устройство было выгодно и с точки зрения хозяйства, основу которого составляло стойлово-пастбищное скотоводство: незастроенный центр поселения представлял собой загон для скота.
От кого же готовились защищаться мирные землепашцы и скотоводы? Первоначально, когда внешней опасности фактически не было, опасаться следовало ближайших соседей и соплеменников. Все поселения являются небольшими крепостями с одинаковой по мощности системой укреплений. Данный факт свидетельствует в пользу отсутствия развитой племенной организации и постоянного войска – «дружины», которое могло составлять «гарнизоны» крепостей на племенных границах, что позволяло остальному населению во внутренних районах племенного расселения не сооружать укреплений на поселениях. Не было тогда и достаточно сильной и авторитетной власти, стоявшей над отдельными родами и могущей пресекать межродовые столкновения. Именно последние и были единственным видом военных действий вплоть до рубежа нашей эры.
Хорошей иллюстрацией для этой эпохи могла бы стать картина Н. Рериха «Встал род на род». Причиной же столкновений мог быть или неурожай, или падеж скота, но могли быть и не только такие меркантильные цели, как захват чужих «богатств», а также, например, месть за попранные честь и жизнь сородича, случайная ссора, убийство или игра личных амбиций.
Более мощные укрепления на некоторых городищах поздней юхновской культуры не под силу было сооружать отдельному роду или патриархальной семье, да и к чему им это было? Неужели для защиты от такого же рода? Вероятно, что к этому времени появляется какая-то общая опасность, которая сплачивала роды и заставляла объединять их усилия для строительства более мощных укреплений в тех поселениях, которые находились на возможных путях подхода врагов. Случевское городище, во всяком случае, явно этому соответствует: оно располагается на высоком правом берегу Судости, буквально в нескольких километрах от ее впадения в Десну. Учитывая, что наиболее удобным, а зачастую и единственным путем степных кочевников была действительно ровная, как скатерть, гладкая лента замерзших зимних рек, миновать Случевское городище пришельцы с юга просто не могли: недаром оно минимум дважды подвергалось нападению врагов.
Реже, там, где не было естественных укреплений, а место было стратегически важным, строились кольцевые валы и рвы в несколько рядов, концы которых примыкали к береговому обрыву или выходили в овраги. Таким было городище Левенка-II, прикрывавшее место слияния Бабинца и Вабли (Стародубский район). Появляется и новый тип городищ – «останцовые», расположенные на отдельно стоящих холмах, имеющих крутые склоны со всех сторон, что делало их укрепление наиболее экономичным с точки зрения трудозатрат. Поскольку по краю они со всех сторон были окружены земляными валами, с течением времени заплывшими к центру, то по внешнему виду стали напоминать чашу, блюдце или тарелочку – под последним названием чаще всего фигурируют в народной топонимике. Так называется и лучшее из них, под Бакланью, перекрывавшее путь вверх по Судости выше устья Вабли. Существовали и так называемые «болотные» городища-убежища, со всех сторон окруженные валом, спрятанные на островках болотистых пойм рек. Они имеют круглую или (у милоградцев) квадратную в плане форму.
Оружие этой эпохи (рис. 5) изготовлялось уже в основном из железа, добытого из местных болотных руд с помощью сыродутного процесса, хотя встречаются еще изделия из бронзы (в основном импортные, скифские) и из кости. Это наконечники стрел позднескифских типов (в виде пирамидки со скрытой втулкой), датируемые обычно IV веком до нашей эры и найденные на городищах Случевск (рис. 5: 2) и Левенка-II экспедицией БГПИ и Института археологии АН СССР под руководством автора в 1982 и 1986 годах. Встречаются и костяные одно- и двушипные наконечники стрел (рис. 5: 4–6), использовавшиеся, скорее всего, для охоты. Впрочем, и скифские наконечники настолько малы, что удивляешься, как с их помощью скифам удалось разбить полчища Дария I в степях Причерноморья и остановить фалангу Александра Македонского на берегах Яксарта (Сырдарьи). В лесную Брянщину они могли попасть как путем торговли, так и вместе со скифским отрядом, совершившим набег на земли невров.
Из железа изготовлялись и наконечники копий, известные в древностях милоградской культуры (рис. 5: 7, 8). Есть сведения об использовании здесь скифских коротких мечей-акинаков, что косвенно подтверждает фразу Геродота о «скифских обычаях» невров. Встречен и железный нож-кинжал (рис. 6), принадлежавший, скорее всего, вождю племени, так как аналогичные предметы вооружения обнаруживаются и на соседних с Брянщиной землях, но всегда – в единичных экземплярах и являющиеся уникальными, штучными и престижными атрибутами власти.
На милоградско-юхновском пограничье, на городище у села Рябцево Стародубского района был обнаружен в 1981 году во время раскопок Новгород-Северской экспедиции Институтов археологии АН СССР и УССР, БГПИ и ЧГПИ железный проушной топор (рис. 5: 9) универсального назначения (автор находки – В. П. Коваленко, черниговский ученый-археолог). Он мог использоваться как для рубки деревьев (что было остро необходимо не только для строительства домов и крепостей, но и развития земледелия в лесной зоне), так и для действий против врага, одетого в металлические шлемы (что, правда, в то время было большой редкостью).
Особым родом оружия, присущим населению именно этих трех культур, чьи границы перекрещивались на Брянщине, была праща. Ядра от нее (рис. 5: 1) обнаружены практически на всех исследованных городищах, причем в наибольшем количестве – на юхновских. У милоградцев, заселявших юго-запад современной Брянской области, использовались обточенные каменные ядра, а у юхновцев и днепро-двинцев (у последних, впрочем, очень редко) – из обожженной глины круглой или чаще всего округло-веретенообразной формы. Праща (рис. 5: 14) являлась изобретением очень древним. Еще библейский пастушок Давид победил с ее помощью одетого в железные доспехи великана Голиафа. В римской армии, например, заслуженной славой пользовались балеарские пращники. В сложенный вдвое кожаный ремень, или ремень с особой петлей на конце, вкладывался камень, затем ремень раскручивался над головой, один конец его отпускался, и камень (или ядро) с силой устремлялся в противника. Дальность действенного полета ядра равнялась приблизительно 100 метрам (у лука – до трехсот шагов у английских стрелков времен Столетней войны), точность была меньшей, чем у лука, однако праща имела преимущество в простоте изготовления как самого оружия, так и метательных снарядов. Использовалась праща при обороне крепостей. У валов некоторых юхновских городищ (Случевск, Синино) обнаружены целые арсеналы заранее заготовленных глиняных ядер, что однозначно свидетельствует об их предназначении. Интересно, что подобные же запасы камней для пращи были сделаны защитниками британских крепостей на юге современной Англии в преддверии римского завоевания Британии. Характерно то, что аналогичные склады эти были созданы на поселениях юга Брянской области, которые в первую очередь могли подвергнуться нашествию скифской или сарматской конницы, а также и иных иноплеменных войск.
Что касается организации войска самих этих прабалтских племен и их тактики, то они вряд ли намного продвинулись вперед по сравнению со своими предками эпохи бронзы. Господствовавшей силой была пехота, состоявшая из всех вооруженных мужчин (а может, даже и женщин) рода или большой семьи. Специфически дружинного оружия (мечи, боевые топоры) фактически не существовало, да и то немногое, что имелось, было скифского происхождения. Лук и стрелы также не пользовались большим почетом – они были в основном охотничьим оружием, хотя и употреблялись стрелы со скифскими бронзовыми наконечниками. Стрелы у самих скифов имели 60–70 сантиметров длины, делались из ясеня, тополя, тростника, были и составные – верхние и нижние части из дерева, середина – из тростника. Это делало стрелу более легкой при достаточном запасе прочности. Стрелы оперялись и красились в черный или красный цвет – для устрашения противника. Для этой же цели, но не для воинов, а их коней служили отверстия в лопастях ранних типов наконечников стрел, издававших при вращении в полете зловещий свист. У одного воина обычно было от 50–60 до 200–300 стрел с разного типа наконечниками простыми и широкими, часто с шипом, дающими широкие рваные раны, и пирамидальные бронебойные, как найденные в Случевске и Левенке. «Цари» имели три символических стрелы в горите, обложенном золотыми пластинами.
Горит – очень оригинальное, типично скифское приспособление для ношения лука и стрел – объединял в себе функции колчана для стрел и саадака (футляра для лука). Крепился горит на левой стороне пояса, ибо на правой висели ножны для акинака. Гориты изготовлялись из дерева и кожи, а у знати украшались золотыми пластинами, представляющими собой настоящие произведения искусства. Стрелы вкладывались в специальный «кармашек» с наружной стороны горита, за спиной воина или у «седла» (точнее, его имитации – седел с твердым каркасом еще не было) были запасные колчаны со стрелами. Луки в них вкладывались в натянутом состоянии, чтобы в скоротечной конной схватке можно было их быстро выхватить и первым послать стрелу в противника. Луки были небольшие – от 0,6 до 1 метра, двояковыгнутые (рис. 5: 12, 13), составные из разных пород дерева, трубчатых костей и сухожилий животных, в ненатянутом состоянии напоминающие обратно выгнутый «лунный серп во время ущерба» (по образному выражению Аммиана Марцеллина). Благодаря этому небольшие луки придавали стрелам большую дальность полета, а на близком расстоянии – и существенную пробивную силу. Впрочем, длина лука не всегда прямо пропорциональна дальности стрельбы – полинезийский лук при длине в 200 сантиметров стрелял на 149 метров, а турецкий, чья длина равнялась 122 сантиметрам, посылал стрелы на 229–257 метров. Для скифских луков такие испытания не проводились, но, судя по легенде о прародителе скифов царе Таргитае, лишь один из сыновей которого смог натянуть отцовский лук, и втором мифе о Геракле, оставившем своему сыну – первому скифу – свой лук, они были также неплохим оружием.
Сравнительно малое распространение лука неудивительно, ведь жители деснинских городищ первого тысячелетия до нашей эры не были ни охотниками, ни кочевниками (у которых сам образ жизни и хозяйства вырабатывает необходимые навыки), а мирными земледельцами и скотоводами. Юхновская «пехота» вообще не была предназначена для военных действий в поле, а использовалась лишь для защиты своих или неожиданных нападений на «вражеские» укрепленные поселения.
Нет никаких признаков наличия у них профессиональных военачальников – «офицеров» или военных вождей, за исключением уже упомянутого железного кинжала, как не наблюдается, впрочем, и вообще социального расслоения, по крайней мере отраженного в имущественном неравенстве. Нет кладов с «импортными» вещами (хотя клады местных изделий имеются, что свидетельствует об обороне), которые могли бы быть добыты во время «зарубежных» грабительских походов, и связанной с их осуществлением воинской организации. В эпоху же варварства такая организация создавалась в первую очередь именно для ведения такого рода военных действий, а затем уже – для охраны племенных границ.
Впрочем, материальные условия для осуществления дальних походов были: местные племена, особенно юхновцы и милоградцы, уже умели использовать лошадь как верховое животное, о чем свидетельствуют находки металлических деталей конской упряжи, в частности – бронзовых ворворок и блях, а также бронзовых литых фигурок самих этих животных. Была ли у населения Брянщины эпохи раннего железного века конница как род войск – вопрос остается открытым. Если она и была, то немногочисленная и низкого качества, а основу войска составляло пешее ополчение всех способных носить оружие жителей, возможно включая и молодых женщин.