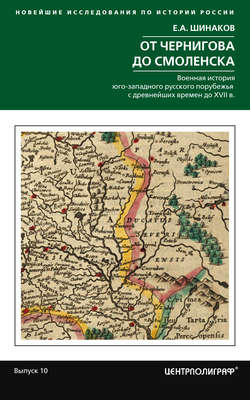Читать книгу От Чернигова до Смоленска. Военная история юго-западного русского порубежья с древнейших времен до ХVII в. - Евгений Шинаков - Страница 5
Часть I
Предыстория и военная история Подесенья в период Древней Руси
Глава I
От первобытности – к славянам
3. На «обочине» Великого переселения народов
ОглавлениеСкифские вторжения мало затронули Брянский край да Подесенье в целом. Однако на рубеже IV и III веков до нашей эры донской державе скифов (сколотов по самоназванию) в степях Северного Причерноморья сменяют также скифские по языку и культуре, но все же иные племена, имеющие собирательное название «сарматы». Их тяжелая панцирная кавалерия, в которой даже кони были одеты в «катафракты» – пластинчатые или чешуйчатые доспехи на кожаной или войлочной основе – без труда опрокинула легкую скифскую конницу, перейдя Танаис (Дон) и быстро достигнув Дуная и Перекопа. Скифы отошли в Крым и укрепились там. За Дунай сарматы первоначально тоже не пошли – там находилась Фракия, подчиненная Македонской державе, царь которой Филипп II и созданная им фаланга и тяжелая кавалерия гетайров за полвека до этого остановили и разгромили армию кочевников самого сильного из скифских «царей» Атея.
Сарматы, которые с IV века стали называться преимущественно аланами (отсюда и Северная Осетия – Алания, республика, основанная их потомками), свыше 500 лет полностью господствовали в Северном Причерноморье, Предкавказье, на Нижней и Средней Волге – до середины III века нашей эры, после чего стали делить власть здесь с пришедшими с севера и запада германцами, распространив господство и на непосредственных предков славян – венедов. Еще в середине сарматской эпохи, во второй половине I века до нашей эры вождь фракийского племенного объединения гето-даков Буребиста создает на территории Трансильвании и Молдавии свою «варварскую» державу и совершает походы на восток и север, эхо которых докатилось и до Брянского края. По принципу снежного кома сюда отходят с юго-запада теснимые воинами как Буребисты, так и Рима (который в 29 году до нашей эры нанес удар по бастарнам-певкинам) народы, подчинявшиеся сарматам, – бастарны-певкины и (по теории Ю. Ю. Шевченко) россомоны («отколовшаяся» часть бастарнов). Последние, прихватив по дороге в Киевском Поднепровье часть зарубинецкого населения, образуют в бассейне Десны и Судости почепскую археологическую культуру. Их считают как частью сарматов, так и одним из германских племен, а также первыми славянами на Брянщине. Впрочем, для той бурной эпохи, когда старые племенные связи, язык и даже религия потеряли свое значение, вполне мог образоваться и разноэтничный племенной союз с общими целями – обороны от захватчиков и организации переселения на новую родину.
Миграции народов с севера начались несколько позднее. Во II веке нашей эры восточногерманские племена готов, высадившись в устье Вислы, двинулись на юг. Пройдя сквозь славянские, прабалтские и венедские земли современной Польши и Западной Украины, они в середине III века нашей эры вышли к северному побережью Черного моря, частично разрушив, частично покорив существовавшие там греческие города-государства. В созданную их вождем Германарихом, по преданию жившим 120 лет, державу вошли не только германцы-готы, но и еще кочевавшие в степях Крыма скифы и сарматы Северного Причерноморья. В конце своего правления Германарих завоевывает некоторые племена Среднего Поволжья, присоединяет живших на восточном побережье Меотиды (Азовского моря) и на Тамани германцев-герулов и покоряет венедов – предков славян.
Готский (по национальности), византийский (по должности) историк Иордан, секретарь полководца аланского происхождения Гунтипеса Базы, воевавшего с готами в Италии в середине VI века нашей эры, оставил подробное описание истории своего народа, в том числе его одиссеи из Балтийского региона в Северное Причерноморье и далее, до Италии и Испании. Там имеется интересное свидетельство не только о маршруте продвижения готов, затронувшем в начале III века Среднее Поднепровье, но и о последующих их походах из своей очередной «родины» в степях Украины на север, в земли венедов. «После поражения герулов Германарих двинул войско против венетов, которые, хотя и были достойны презрения из-за слабости их оружия, были, однако, могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. Но ничего не стоит великое число негодных для войны, особенно в том случае, когда и Бог попускает, и множество вооруженных подступает. Эти (венеты)… происходят от одного корня и ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов. Хотя теперь… они свирепствуют повсеместно, но тогда все они подчинялись власти Германариха». Археологически готы присутствуют вблизи границ Брянского региона дважды – в первой трети III века, когда они на время остановились в Среднем Поднепровье перед вторжением в Северное Причерноморье, находившееся еще под защитой римских легионеров (до 40-х годов этого века), и в середине IV века, что можно связать с походом Германариха и дальнейшем расселением населения его державы (не только готов), идентифицируемой с черняховской культурой, на север вплоть до Сейма. Первый готский импульс хорошо стыкуется с кладами характерных для киевской культуры «венетов» предметов с эмалями, в одном из которых, происходящем с юго-востока Брянской области, были обнаружены римские серебряные денарии с последней датой 210 год. Ранее выделялось (Г. Ф. Корзухиной) три основных центра распространения этих предметов: Юго-Восточная Прибалтика (Литва и Мазовия); Среднее (Киевское) Поднепровье; Верхнее Поочье (Мощинская культура), а Подесенье было лакуной в их распространении. За последние десять лет ситуация кардинально изменилась – Среднее Подесенье с Посемьем стало «мостом», соединяющим два «старых» центра – Среднее Поднепровье и Поочье, а также и с «появившимся» новым их ареалом – Подоньем.
С точки зрения истории воинской культуры региона наиболее интересен клад предметов с эмалями и сопровождающего инвентаря, обнаруженный поисковиками у села Усух Суземского района и переданный в Государственный исторический музей (Москва) в 2012 году. Он был закопан рядом с поселением киевской культуры, расположенным на пересечении путей из Посемья в Подесенье и из Среднего Поднепровья в Поочье и вообще на север. Кладов украшений много, а вот предметов вооружения и даже специализированно воинского быта – практически нет. Единственно в кладе у села Усух встречена дорогая рукоять плети и детали металлических оковок рога для питья – ритона. Все это – элементы интернациональной, «всаднической» воинской культуры элиты местных племен, включая так называемую «пиршественную» культуру. Ни индикаторов мест сражений, ни следов разгрома на поселениях нет. Впечатление такое, что военная угроза имела место, но до реальных столкновений не дошло, либо они происходили не на этих землях. Возможно, местная военная элита либо погибла при защите «дальних подступов» к своим владениям, либо присоединилась к готам в их походе на богатые города Причерноморья. Что касается документированного вторжения воинов Германариха на земли венедов, то оно нашло отражение в несколько более поздних – конца III–IV века – находках предметов вооружения предположительно противоборствовавших сторон в одном пункте – на реке Коломина, притоке реки Навля, в лесах левобережья Десны. В нескольких десятках метров друг от друга здесь был найден относительно длинный (лезвие – 67 сантиметров, черешок – 11 сантиметров) и широкий (до 4,2 сантиметра) рубящий меч-спата (рис. 8) и узколезвийный боевой топор.
Такие мечи проникают в римскую кавалерию в середине II века нашей эры от служивших там галлов или сарматов и имеют прототипы в их наступательном вооружении. В отличие от пехотных гладиусов спаты первоначально не имели ребра (чаще двух ребер) жесткости, появляющихся у них лишь к концу IV – началу V века, причем почти одновременно. Уже в III веке, а то и раньше спаты проникают к некоторым германским племенам, в частности к вандалам – носителям (наряду со славянами) пшеворской культуры на территории Польши. Не исключено попадание спаты и к военной элите готов – или от вандалов, или от римлян в качестве трофея. Лезвие брянской спаты абсолютно плоское, конец, в отличие от самых ранних образцов, слегка заострен. Сочетание этих признаков позволяет датировать данный образец III–IV веками. Топоры же таких типов были распространены в северных лесах от Восточной Литвы до рязанского Поочья, с географическим центром в мощинской культуре на верхней Оке. Это территории балтов на западе и финно-угров на востоке, при влиянии на последних германской воинской культуры (рязанско-окские могильники V–VI веков). Наиболее близкая к Брянщине мощинская культура принадлежала либо балтам (есть точка зрения В. В. Седова, что конкретно «голяди»), либо прабалто-славянам (венедам), и данный тип топоров в ней датируется концом IV – первой половиной V века. В итоге, если допустить одновременное «выпадение» обоих предметов в землю, то это, скорее всего, могло произойти именно в конце IV века нашей эры и может быть связано с «венедским» походом Германариха.
V–VI века нашей эры представляют, вероятно, самый «темный» период в истории Подесенья, и не только Брянского. В данном регионе они знаменуют собой не только переход от киевской к колочинской культуре, но и хронологическую лакуну между эпохами «вещей с эмалями» и «пальчатых фибул», или так называемых «древностей антов». Любая датируемая находка этих «темных веков», а тем более – их комплекс имеет несомненное значение для заполнения данной лакуны.
В Климовском районе местные жители обнаружили комплекс предметов, состоящих из фрагментов шлема типа «spangenhelm» (рис. 9), удил, псалий и иных деталей упряжи верхового коня, а также обрывков кольчуги. Предметы были рассеяны на нескольких десятках квадратных метров ранее распахиваемого поля, следов погребения или культурного слоя поселения на нем пока не обнаружено.
Первой частью комплекса являются железные двусоставные удила с фигурными бронзовыми псалиями. Удила – традиционные, имеющие аналоги как в скифо-сарматском мире, так и в средневековом, причем не только кочевническом. А вот псалии – уникальны, полных аналогов пока не имеют. Они представляют собой с одной стороны восьмигранный стержень, завершающийся отогнутой под прямым, но скругленным углом, стилизованной головой хищной птицы с большими глазами, представленными кольцевидным вертикальным бордюром. С другой стороны стержень переходит в пластинку, расширяющуюся к краю. Между этими двумя частями псалий находится округлое в сечении сужение, отделенное уступами и от стержневой, и от пластинчатой части псалий. На это сужение-перемычку надето железное, пластинчатое в сечении кольцо от грызла удил. С той стороны псалий, куда повернута голова птицы на их конце, находится прямоугольно-овальная в плане петля, представляющая собой стоящую лошадь, «ноги» которой соединены с уступами в основаниях стержневой и пластинчатой частей псалий. В сечении туловище, шея и голова лошади шестигранные, задняя часть скруглена, грудь слегка выступает вперед. На голове точка в круге, имитирующая глаза, и небольшой уступ, напоминающий уши.
К крупу лошади на плоских бронзовых колечках прикреплены две бронзовые пластины – скрепы для ремней узды, каждая из них своей формы. Одна из них представляет собой округленный на конце язычок с рубчатым бордюром по краю и рельефным ребром по центру пластины. Вторая пластина, тех же размеров, что и первая, имеет совершенно иную конфигурацию. При взгляде с одной стороны она напоминает собой сапог с расширяющимся кверху голенищем, выделенным высоким треугольно-округлым каблуком и загнутым кверху острым носком. Если же посмотреть с другой стороны, то пластина представляет собой сильно стилизованную хищную птицу с расширяющимся книзу хвостом, короткими треугольно-округлыми крыльями, дугообразной шеей и изогнутым клювом.
Их можно датировать V веком нашей эры, а наиболее близкую аналогию видеть в псалиях из Унтерзибенбрунна (Восточная Австрия, запад исторической Паннонии), где в тот период проживало германское племя ругиев под властью (до 453 года) каганата гуннов. Аналогичные псалии имеются и на другом конце Европы – на Северо-Западном Кавказе, также в этот каганат входившем.
Таким образом, если наложить тип общей формы псалий на карту V века, то их находки будут оконтуривать северо-западный (Австрия) и юго-восточный (Кавказ) край зоны гуннского владычества в Европе. Однако, во-первых, держава гуннов была чрезвычайно многонациональной и включала, кроме самих гуннов, как минимум еще и ираноязычные (алано-сарматские) и германские племена, а также группы романизированного и эллинизированного населения различного этнического происхождения. Кроме того, для самих этнических гуннов был более характерен, в первую очередь, геометрический с инкрустацией красными камнями (в основном альмандинами) орнамент. Здесь же мы видим стилизованных хищных птиц и лошадь. Что касается голов хищных птиц, орлов, то они для V–VI веков достаточно многочисленны в германских древностях прежде всего франков, остроготов (остготов), гепидов, правда, не на псалиях, а на поясных пряжках или фибулах. При этом «законодателями мод» в этой сфере выступают гепиды в Паннонии, а остроготы, по крайней мере крымские, заимствовали орлиноголовые пряжки лишь на рубеже V–VI веков. С двумя последними племенными объединениями гунны тесно контактировали в V веке, причем с остроготами в двух местах Европы – в Трансильвании – Паннонии и в Крыму, а возможно, и на Северо-Западном Кавказе. Этим, вероятно, объясняется появление орлиноголовых мотивов в прикладном искусстве VI века не только Северо-Западного Кавказа, у адыгов в первую очередь, но и Центрального, у аланов Северной Осетии. Присутствуют на Западном Кавказе и такие типично франкские предметы вооружения, как метательные топоры – франциски.
Что касается фигурки лошади, то среди древностей V–VI веков нашей эры, которые могли оказать влияние на семантику и стиль декоративного оформления «климовских» псалий, наиболее вероятно назвать Западную Паннонию V века нашей эры вместе с лангобардской Италией VI века нашей эры. В этническом плане Западная Паннония V века и Италия VI века являются остроготской и лангобардской, то есть германской. Последнее обстоятельство хорошо коррелирует с германским происхождением орнаментальных голов хищных птиц, а «гуннские» удила из Унтерзибенбрунна находятся в этом же регионе (хотя и на территории племени ругиев, но они также германцы) и вполне могли подвергнуться германскому культурному влиянию. Более тщательное рассмотрение скрепы-держателя в форме хищной птицы позволяет стилистически сблизить его с франкскими фибулами в виде фигурок орлов с треугольным, как на «климовских» псалиях, выступом-крылом, датируемым первой половиной VI века нашей эры. Интересно, что на территории Брянской области, то есть в Восточной Европе, была обнаружена в 2013 году еще одна накладка на ремень, возможно, уздечки, сделанная из бронзы и оформленная в виде очень стилизованной шеи, головы и клюва хищной птицы.
Вторая скрепа ремня уздечки в форме простого вытянутого язычка со скругленным концом, рубчатым бордюром по краю и ребром по центру имеет несколько аналогий в степных древностях Северного Причерноморья. Датируются эти аналогии первой половиной V века и позднее. С учетом же возможности не вообще германских, а конкретно франкских влияний на детали формы и семантику изображения одной из скреп (зажимов) для ремней узды с «климовских» псалий, важным является наличие псалий с орнитоморфными изображениями в Северо-Восточной Франции (могильник Шарлевиль-Мезье в Арденнах), период бытования которых датируется или второй половиной – концом V века, или 480–520 годами. Очень похожие накладки (скрепы, зажимы) со звериными головами встречены также в двух «княжеских» захоронениях в Натангии (Пруссия) и Трансильвании – Семиградье (Румыния). Первое принадлежит одному из вождей местных пруссов, но с сильно «германизированным» инвентарем, второе – вождю гепидов. Последнее датируется третьей четвертью V века и в связи с этим может служить исходным материалом и для прусских находок, и, возможно, даже для «франкских» изделий. Устойчивые связи земли гепидов с Юго-Восточной Прибалтикой по янтарному пути документируются таким массовым материалом, как керамика с «гепидским» орнаментом. С другой стороны, в германской части Юго-Восточной Прибалтики (германо-мазурской культуре) встречены ранговые принадлежности элиты гепидского или крымско-готского происхождения VI–VII веков – орлиноголовые пряжки. Кстати, существует мнение именно о понтийско-кавказской культурной принадлежности данного уздечного набора (О. В. Радюш). С учетом предположительных франкских или гепидских влияний на иконографию декоративно-функциональных деталей «климовских» псалий их вряд ли можно датировать ранее начала VI века нашей эры. Об этом же говорит и время бытования изображений лошадок у лангобардов (VI век нашей эры).
О рейнских корнях климовского комплекса находок свидетельствует еще один его предмет – топоровидная привеска к ремню сбруи. Эта пластинчатая привеска имеет ближайшие аналогии в Качине на Волыни, а «качинской» комплект предметов конской упряжи в сочетании с женскими украшениями, в свою очередь, имеет аналогии в Унтерзибенбрунне (как и псалии).
При сопоставлении этих, а также иных сходных предметов сбруи в литературе был сделан вывод о том, что здесь речь идет об отголосках позднепровинциальных римских изделий, изготовлявшихся, по-видимому, в мастерских Рейна и Северной Галлии. В этой связи объяснимо франкское влияние, так как именно это германское племенное объединение владело в позднеримский и постримский период регионом Рейна – Северной Галлии. Вполне возможно, что римские мастерские работали уже по заказу или даже при дворах варварских правителей. Другое дело, что изделия этих мастерских распространялись не только среди франков. Регион Унтерзибенбрунна мог принадлежать ругиям, развитие предметов из Качина на Волыни «связано преимущественно с готами и гепидами».
С ареалами остроготов (остготов), но не в Польше и Волыни, а в Западной Паннонии, Далмации, Иллирии, Италии, гепидов в Восточной Паннонии, франков на Рейне, но также и алеманнов, бургундов, в меньшей степени свевов (или уже герулов) в Словакии, вандалов в Северной Африке, тюрингов в Центральной Германии связан еще ряд элементов климовского комплекса находок. Это детали шпангенхельма (пластинчатого составного шлема), о происхождении типа которого до сих пор нет единого мнения. Ясно, что генетически он связан с позднеримскими шлемами (а те, в свою очередь, с иранскими ламиллярными IV века), но римским или византийским не является. Возможно, он и изготовлялся (как детали упряжи и украшения) в мастерских бывшей Римской империи, но по заказу племенных вождей или даже «королей» германских племенных объединений.
Внутренней типологии шпангенхельмов «бальденхаймского» типа до сих пор не проведено, хотя их изучение началось еще в начале XX века и было создано несколько карт их распространения. На карту 1971 года нанесены 17 шлемов из 15 местонахождений, на карте 1987 года их число повысилось до 31 (27), в основном за счет Скандинавии, земель франков и алеманнов, Македонии и Северной Африки. С учетом новых данных (Великобритания, Болгария), а также находки в Климовском районе Брянской области число местонахождений шпангенхельмов может быть увеличено до 30–31, а количество шлемов до 32–33, а по мнению некоторых современных зарубежных исследователей – и до 35.
Что касается внутренней типологии шпангенхельмов именно «бальденхаймского» типа (рис. 10), как климовско-навлинский экземпляр, то они имеют пять обязательных элементов, которые в комплексе объединяют их в один тип и отделяют от схожих с ними иранских и позднесарматских; позднеримских и ранневизантийских; прикамских IV–V веков; скандинавских вендельских шлемов VI–VII веков.
Это: 1. Четырех- или шестичастность купола шлема, состоящего из чередующихся Т-образных ребер, скрепляющих и частично перекрывающих четыре или шесть железных пластин подтреугольной или миндалевидной формы. 2. Перекрытие и скрепление нижних концов ребер и пластин медной позолоченной лентой с растительно-зооморфным тисненым рельефным орнаментом (редко – без него). 3. Соединение верхних концов ребер и пластин круглым с вертикальной трубочкой (для султана) – шишаком-навершием. 4. Наличие на ребрах и шишаке гравированного или пунсонного орнамента в геометрическом стиле. 5. Отсутствие переносья или лицевой маски.
Исключение из этих правил составляют всего несколько шлемов, но и те были найдены на одних памятниках и «классическими» экземплярами.
Варианты: шлемы могут быть либо четырех-, либо (чаще) шестичастными. Форма их тульи может быть либо полусферической, либо (чаще) сфероконической (рис. 10).
Более чем у половины шлемов имеются нащечники, у некоторых сохранились кольчужные бармицы на затылке. Очень редко на передней части ленты-очелья имеются две закругленные выемки над глазами. Не менее чем у шести экземпляров железные пластины шлемов покрыты позолоченной медью с гравированными орнаментами и изображениями.
По богатству отделки отличаются шлемы из Монте-Пагано в остготской Италии и Битоля (Гераклея Линцестис), также в остготской Македонии. На первом присутствуют сцены охоты или травли зверей, рыбы, лошади, хищники кошачьей породы, человек с двумя рыбами, птицы, клюющие рыб, и т. д. На шлеме из Гераклеи помещены христианские сюжеты (Христос, благословляющий две фронтально стоящие человеческие фигуры), надписи на греческом языке – просьбы к Господу о здоровье и безопасном возвращении с поля боя владельца шлема. По мнению македонских исследователей, этот шлем мог быть изготовлен в мастерских Константинополя специально для короля остготов Теодориха не ранее 494 и не позже 523 года нашей эры. На золоченых пластинах шлемов из Словакии и с Рейна присутствует чешуйчатый орнамент в сочетании с крестами и ромбами. Тот же и в той же технике орнамент нанесен и на Т-образные ребра шлема. Точно такой же орнамент украшает нащечник шпангенхельма из музея в Добруни, явно связанного с климовским экземпляром, хотя, по непроверенным данным, обнаруженным в междуречье Навли и Неруссы.