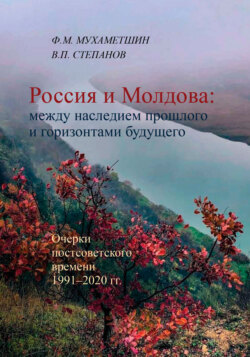Читать книгу Россия и Молдова: между наследием прошлого и горизонтами будущего - Ф. М. Мухаметшин - Страница 6
I. Эволюция российско-молдавских отношений
Конфликт советской действительности и молдавской идентичности
ОглавлениеА теперь, пусть лапидарно, но все же следует затронуть болезненную тему недовольства части населения МССР советской властью.
Советская историография довольно убедительно сформировала у жителей республики представления о том, что все прогрессивное трудовое население края ждало прихода советской власти и надеялось на скорейшее освобождение от оков капитализма[64].
В нашей работе мы не ставим перед собой цель осуществления анализа историографии посткоммунистической Молдовы, тем более что этому уже посвящен ряд исследований[65].
На фронтирном пространстве, коим исторически выступает молдавская земля, по определению не может быть одинаково думающих людей и сообществ. Известно, что исторически, еще во времена Средневековья, в Молдавском княжестве были боярские группировки, ориентирующие свои интересы на разных внешнеполитических акторов государств: поляков, турок, русских…
Общее время нахождения Бессарабии под властью Румынии составило 47 лет, и точно такая же цифра характеризует распространение в крае советской идеологии. Понятно, что каждое время отличается своей спецификой, но тем не менее…
Советская власть сделала очень много для того, чтобы способствовать подъему уровня жизни населения Молдавии. Без преувеличения можно утверждать, что советская система стала «золотым временем» молдавской экономики, выведя маленькую социалистическую республику в число ведущих республик СССР[66]. Но путь к этому благоденствию лежал через человеческие жертвы, голод, этнокультурное противостояние.
Со спецификой политики колхозного строительства и борьбы с кулачеством в Молдавской АССР в составе Советской Украины бессарабские крестьяне сталкивались и в межвоенный период (так или иначе неформальные связи между двумя берегами существовали, как это бывает на любой границе). В 1928–1930 гг. была осуществлена массовая депортация «кулачества» в Сибирь, Архангельскую область… Под маховик репрессий попали немцы и болгары.
Отношение к этому в Бессарабии было неодинаковым. Советская идеология ориентировалась на интересы беднейшего крестьянства и пролетариата. Представителей последнего здесь имелось мало, больше их было разве что на железной дороге. Что же касается крестьянства, то оно отличалось неоднородностью. Были и зажиточные крестьяне, которые пострадали первыми, поначалу в молдавской автономии, позже в Советской Молдавии в 1940 г.[67], 1949–1958 гг.[68] Важно обратить внимание на то, что основная масса полиэтнического населения края – молдаване, украинцы, болгары и гагаузы – представляют собой земледельческие народы. В традиционном сознании носителей этих культур культ земли находился на особом, чуть ли не сакральном месте. Характеристика хорошего хозяина – «gospodar bun» (рум.) – подразумевала прежде всего умение заботливо ухаживать за своей землей. Большевистский лозунг «Земля – крестьянам» при одновременном объединении земли в колхозы трудно понимался населением, вызывая сопротивление и возмущение.
Внедрение новых общественных отношений осуществлялось путем борьбы с классово чуждым элементом, в основном зажиточным крестьянством, не вступившим в колхозы. С 1944 по 1948 г. во внутренние регионы СССР (слабо освоенные) было отправлено 50 тыс. человек.[69]
Ужесточение политики ограничения численности кулацких хозяйств (в Советской Молдавии это произошло позже, чем во всем СССР, уже после ВОВ – операция «Юг») вызывало и встречное сопротивление.
Так, с 1946 до середины 1948 г. органами МВД было раскрыто 217 вооруженных групп, насчитывавших около 900 человек. В формировании этих образований и руководстве ими принимали участие около 130 кулаков[70].
В 1949 г. началась беспрецедентная по своим масштабам операция по выселению ненадежного (в социальном смысле) населения под кодовым названием «Операция Юг»[71]. В ходе ее реализации было выселено в Сибирь и Казахстан свыше 40 тыс. крестьян. Понятно, что далеко не все смогли вынести тяготы и лишения в малоприспособленных для жизни местах, включая тяжелый подневольный труд.
Два года спустя, в 1951 г., наступила следующая волна депортации под кодовым названием «Север». Эта менее массовая акция была направлена на верующих «Свидетелей Иеговы», избегавших участия в выборах и службы в армии[72].
Даже из обзорной информации, представленной выше, становится видно, что в республике далеко не все обрадовались приходу большевиков. Репрессивная политика в немалой степени усугубила негативное восприятие новой власти. При этом не следует забывать, что основная масса репрессированных и членов их семей смирилась со своей судьбой как с данностью.
В стране, где большое количество людей прошло через лагеря, причем огромный процент людей оказался там просто ни за что, в массах формировалось представление о том, что все это не случайно, что враг не дремлет, что так надо. Потому многие из тех, кто прошел лагеря, не испытывали ненависти к этой самой власти, которая их туда отправила. Наоборот, росла вера в нее. А когда умер И. Сталин, его окружению удачно удалось свалить все ошибки на него и его культ и, таким образом, советская власть оказалась как бы ни при чем. По большому счету она и была не при чем, так как властью оставалась только на бумаге. Советы практически ничего не решали в стране, в которой партийная система, по сути, подчинила себе все рычаги управления народным хозяйством.
Хоть это и научная работа, но слова Владимира Высоцкого, глубоко чувствовавшего советскую реальность, являются яркой иллюстрацией к излагаемой мысли:
А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как рвутся сердца[73].
Дополнительной бедой стали неурожайный 1945 год и последующий за ним голод 1946–1947 гг, унесший десятки тысяч жизней. Нормализация жизни в республике наступает только с середины 50-х гг. прошлого века.
Тут важно подчеркнуть, что наряду с наличием части недовольных новым строем большинство жителей республики активно включились в дело восстановления народного хозяйства и строительства социализма.
Несмотря на реальные достижения в области развития народного хозяйства в годы советской власти, в стране имелись и те, которые были и недовольны, и не согласны с этой властью. Недовольство в основном проявлялось на почве борьбы за предпочтения румынизма и капиталистических отношений. Основная масса участников антисоветского движения состояла из учительства, учащихся и глубоко верующих людей – наиболее образованного и идейного социального слоя.
Недовольство проявлялось по-разному. Имели место и открытые формы противостояния. Так, в 1946 г. в Молдавии, в г. Сороки, образуется антисоветская подпольная организация «Лучники Стефана» (рум. Arcașii lui Ștefan). Главная идея этой небольшой организации заключалась в противостоянии советской власти и борьбе за панрумынизм. В актив организации входили учителя из Сорок. Возглавляли ее В. Батрынак, В. Соловей[74]. В 1949 г. студентами медицинского и педагогического университетов была создана еще одна унионистская организация[75].
Антисоветские организации формировались не только в среде интеллигенции, но и в крестьянском сообществе. Яркий пример – антисоветская деятельность подпольной группы Филимона Бодиу, состоявшей в основном из членов его семьи и сочувствующих[76]. Ф. Бодиу агитировал против советской власти, писал угрожающие письма в советы с требованием не снимать кресты с детей, не закрывать церковь, прекратить реквизиции зерна у крестьян и т. п. На счету у Бодиу были и убийства партийных лидеров, милиционеров[77]…
Действовали такие подпольные антисоветские организации: «Меч правосудия» (рум. «Sabia dreptății»[78], 1947 г.); «Партия свободы» (рум. Partidul Libertății, 1950 г.)[79]; «Черная армия» (рум. Armata Neagră, 1949–1950 гг.)[80]; Демократический союз свободы (рум. Uniunea Democratică a Libertății, 1951–1952 гг.)[81].
Антисоветские настроения проявлялись в связи с вовлечением крестьян в колхозы. Атеистическая пропаганда вызывала противостояние среди части верующих.
В постсоветской Молдове начался процесс рассекречивания партийных архивов и специальных хранилищ силовых министерств, что, возможно, в недалеком будущем позволит раскрыть немало интересных сюжетных линий и фактов о политических и социальных процессах, протекавших на территории МССР. Не следует забывать, что румынская служба безопасности, одна из наиболее эффективных в Европе того времени, не могла не сохранить на оставляемой территории хорошо законспирированную агентуру, ведущую тайную подрывную деятельность, антисоветскую пропаганду, саботаж и т. п.
Говоря об этих процессах, нельзя забывать, что они осуществлялись в сложный период восстановления народного хозяйства, политики снижения цен, трудной для государства, но одновременно очень значимой для народа и укрепления его веры в светлое будущее (этот пример заботы страны о людях сегодня часто приводят пожилые люди, помнящие то время).
В массовом сознании советская система формировалась как наиболее прогрессивная в мире. Серьезно была налажена пропаганда советского образа жизни через систему образования[82]. В Стране Советов выросло и было воспитано несколько поколений, которые не то чтобы не помнили, а просто не знали другой жизни.
Одновременно достижения советского строя сопровождались многочисленными деструктивными процессами. Это целый комплекс кризисных явлений (кризис поколенческих ценностей, отсутствие понимания трансформационных процессов в классовых отношениях, ценностные трансформации в сознании масс – конфликт интернационализма и этнических ценностей, наконец, падение доверия к коммунистической идее и ее проводникам, социальная неудовлетворенность и др.), которые накапливались до тех пор, пока не превысили критическую массу и вышли из-под контроля власти, которая в последний момент просто самоустранилась от руководства государством. Напомним, что распад большой страны происходил сверху, планомерно и системно.
Известна аксиома, что история не терпит сослагательного наклонения, оперируя только фактами. С другой стороны, если представить, что война с Наполеоном ждала бы Россию пятью годами позже, вполне допустимо предположить, что российские войска, находившиеся в большей боеготовности, нежели османское войско, захватили бы и Валахию и Молдавию. В этом, вполне возможном случае по крайней мере исторические молдавские земли не были бы разделены по Пруту. Сегодня, в том числе в современном гуманитарном знании немало говорится о проблеме сослагательного наклонения в истории[83].
Не бывает такого, чтобы в сообществе все были довольны властью и строем. В советское время на протяжении нескольких поколений в людях воспитывалось осознание того, что они живут в лучшем в мире государстве. Вместе с тем в ряде семей, в том числе и в Молдавии, трагедия репрессий, связанная с родными и близкими, передавалась подрастающим поколениям, при этом накапливалось негативное отношение к системе.
Вспомнилось услышанное, когда обычный человек с большим жизненным опытом, живущий в Молдове, прокомментировал споры, резонирующие в обществе, о том, когда же лучше жилось: при румынах или при Советах, бросив короткую, но меткую фразу: «Кому когда было лучше…»
Межпоколенная связь продолжает работать и давать свои результаты. Кто-то, вне зависимости от родного языка, используемого в семье, подчерпнув ненависть к советской власти от дедушек и бабушек и закрепив это чувство на уроках в школе, видит идеалом Великую Румынию. Кто-то наоборот полагает, что советские годы были лучшими в истории их страны. Жизнь на фронтире, она такая – разнообразная и явно не однополярная.
В разных семьях по-разному интерпретировались и продолжают интерпретироваться события прошлого и настоящего. Ломка социальной системы, которую пережило население Советской Молдовы после 1944 г., тогда тоже расколола общество, большинство представителей которого, пользуясь благами советской власти, получило образование, возможности карьерного развития.
Следует напомнить еще об одной особенности. В годы Второй мировой войны свыше 20 тыс. молдаван были призваны в румынскую армию и воевали против СССР. После освобождения Бессарабии в 1944 г. в Красную армию было мобилизовано 256 800 жителей, еще 3500 человек участвовали в партизанском движении против немецко-румынских противников. Одновременно почти в два раза большее количество лиц принимало участие в разного рода бандформированиях, что тоже свидетельствует о многом, в том числе о противоречиях жизни на фронтирной территории.
Приведенные цифры наглядно говорят о том, что на стороне Советов сражалось гораздо большее количество уроженцев Молдавии. Те же, что воевали на стороне противника, в советское время были преданы забвению, будучи отнесенными к вражескому лагерю пособников и сторонников фашизма. Многие из них смирились с положением дел, другие же, как уже отмечалось, копили ненависть и злобу на советскую систему, передавая эти чувства детям и внукам.
Еще со времени средневековой Молдовы основная культурная жизнь протекала в запрутской части государства. Столичные города – в разное время Байя, Сучава, Яссы – находятся в запрутской Молдове. С дефицитом культурной составляющей и столкнулись идеологи построения молдавской самобытности. Практически все культурные деятели, вошедшие в учебники Советской Молдавии, жили и творили за Прутом: Стефан Великий, М. Эминеску и мн. др., чьи памятники украшают современный центральный парк Кишинева, давно вошли в классические анналы румынской культуры и истории.
Молодой советской власти в Молдавии приходилось, по сути, с нуля воспитывать молдавскую советскую интеллигенцию. Основную массу ее составляли выходцы из крестьянской среды. И здесь тоже есть нюансы.
В руководство республики, особенно в первые десятилетия советизации Молдавии, в основном входили назначенцы из России и Украины. А при «выращивании» национальных кадров явное предпочтение отдавалось левобережным молдаванам. Власть им больше доверяла в силу того, что советская система на левом берегу Днестра существовала значительно дольше. Это недоверие в конечном итоге вылилось в то, что основная масса крупных предприятий и, соответственно, пролетариат были сосредоточены в Левобережье. Советская система с недоверием относилась к бессарабцам, оказавшимся под румынским влиянием.
Это не означает, что в том же Кишиневе или втором по величине городе в Молдавии – Бельцах не строились другие предприятия, кроме перерабатывающих. В молдавской столице, например, функционировало немало заводов военно-промышленного комплекса. Среди них – «Мезон», «Счетмаш», «Сигнал», «Альфа», «Топаз», и это далеко не полный список. Указанные предприятия, наряду с гражданской продукцией, выпускали военную. Необходимо заметить, что предприятия ВПК имеют определенную специфику. Они оперативно демонтируются и транспортируются. Это, собственно, и произошло, когда развалился Союз. Многие квалифицированные кадры уехали вслед за оборудованием в Россию. Часть оснащения – где по безалаберности, где умышленно – была распродана. Гражданская продукция выпускалась еще несколько лет, а затем заглохли поставки, кончилось сырье. Следующим этапом были фирмы и фирмочки, владельцами которых стали в том числе и те, кто работал на этих предприятиях в ранге разного рода руководителей. А еще позже основная масса корпусов данных предприятий превратилась в основном в торгово-развлекательные или бизнес-центры. Происходил беспрецедентный демонтаж уникального дорогостоящего оборудования, большая часть которого сдавалась в утиль на переплавку или же продавалась иностранным перекупщикам как сырье. Как показала история, советская власть не зря относилась к бессарабцам с недоверием…
Это недоверие вполне явственно ощущалось. Среди интеллигенции в 60–70-х гг. XX в. даже ходила шутка: «Если хочешь быть министром, нужно родиться за Днестром!» (рум.: «Dacă vrei să fii ministru, trebuie să te naști după Nistru»).
Пропагандируя ценности интернационализма, советская идеология одновременно способствовала развитию национальных культур. Постепенно в республике формируется молдавская интеллигенция, в большинстве своем в первом поколении. Наряду с представителями еврейской и русско-украинской составляющей, она вливается в кадровый состав учителей, врачей, ученых, политиков, общественных деятелей. Политика молдаванизации национальных ценностей опирается на русскокультурную составляющую, в то время как румынский язык черпал свое обновление из французского языка. Показательны в этом смысле слова молдавского филолога академика А.И. Чобану: «…Русский язык стал для нас неиссякаемым источником обновления и обогащения молдавского языка не только в количественном, но и в качественном плане»[84]. Под влиянием русского языка развивается письменность и малочисленного гагаузского народа[85].
Идея панрумынизма, скрываемая в среде интеллигенции, время от времени находила выход. Показателен пример подготовки к печати «молдавско-русских словарей», молдавская часть которых зачастую просто транслитерировалась из румынских словарей с использованием кириллицы. Однако, напомним, что к одному языку сводить национальное самосознание не следует.
Мы уже отмечали недостаточное внимание к национальной политике в СССР, что вылилось в специфическую языковую политику в республике, где среди полиэтнического населения самое широкое распространение получил русский язык, молдавский использовался прежде всего в системе образования (наряду с превалирующим русским). Это позволяло готовить национальные кадры, которые постепенно, к середине 70–80-х гг., начинают вытеснять русскоязычных конкурентов.
Своеобразным «звоночком», обращающим внимание на незавершенность решений относительно языкового вопроса, а также молдавской и румынской идентичностей, явился Конгресс Союза писателей МССР, который состоялся 14–15 октября 1965 г. Знаковой проблемой, поднятой на Конгрессе, стал вопрос о языковой ситуации в Молдавии. Писатели пришли к решению о необходимости перевода языка на латинскую графику[86].
Союз писателей Молдовы стал своего рода очагом свободомыслия. Причем особых преследований в отношении инакомыслящих со стороны спецслужб внешне не последовало. Один из активистов, И. Друцэ, открыто выступавший в поддержку латинизации языка, даже переехал в Москву, откуда, особенно после распада СССР, активно поддерживает румынизацию молдавского сообщества, наряду с не менее известным композитором Е. Дога[87], также избравшим для своего постоянного проживания бывшую столицу СССР. Время еще расставит свои акценты, и многое прояснится. Однако напрашивается предположение, что переезд в Москву был связан прежде всего с необходимостью разбавления концентрации инакомыслящих в среде интеллигенции республики за счет демонстративной поддержки творческого роста талантливых людей.
Добавим, что молдавский язык продолжал в 60–80-х гг. активно использоваться в быту, особенно в сельской местности. Одновременно он становится корпоративным языком молдавской интеллигенции, постепенно, особенно в творческих специальностях, отделяющей себя от русскоговорящих коллег и окружения.
При этом, следует заметить, использование молдавского языка в республике не носило обязательного характера. Русский язык был широко распространен, особенно в городах. Подобная ситуация способствовала постоянному кадровому притоку из других республик. В силу мягкого и благоприятного климата в Молдавию тянулись и пенсионеры (из военной сферы, а также из сибирских регионов).
В начале 70-х гг. в Кишиневе организуется Национально-патриотический фронт Бессарабии и Северной Буковины. Во главе его стоял старший брат одиозного молдавского политика Михая Гимпу – Георгий. Члены этой организации преследовали идею выхода Молдавии из состава СССР с последующим объединением с Румынией. Состоявшийся судебный процесс по делу этой организации осудил ее лидера и наиболее активных членов на длительные тюремные сроки за антисоветскую деятельность.
Сергей Демьянов выделяет еще одну особенность гуманитарной молдавской интеллигенции, подчеркивая ее скрытое диссидентство: «Как истинные представители своего хорошо освоившего науку выживания народа, они (интеллигенты. – Прим. авт.) вели себя осторожно, расширяя свою свободу только там, где это было в данный момент безопасно. Годами ведется тонкая игра – интеллигенты подыгрывают политике власти по утверждению идеологии молдовенизма в пику мысли о румынской идентичности местного населения»[88].
Эту скрытую тенденцию в среде преподавателей-историков молдавской национальности убедительно демонстрирует С. Мустяцэ, который привлекает к изучению данного процесса не только архивные и печатные, но и нарративные источники (непосредственные воспоминания) молдавских ученых первого поколения. В их интервью демонстрируются многие системные моменты, которые резонировали в среде части творческой и научной интеллигенции и были предметом пристального внимания советских спецслужб[89]: «И в 60-х годах Педагогический институт был ликвидирован. Именно ликвидирован, потому что он превратился в оазис национальной идеологии, чего у нас нет даже в настоящее время, к сожалению, нет у нас национальной идеологии» (проф. Б. Визер); «Наиболее сложным было то, что администрация, по указанию коммунистического руководства, требовала от сотрудников Института истории АНМ исследовать работы ученых Румынии и установить, руководствовались ли они шаблонами советской историографии…» (проф. А. Мошану); «Я стал кандидатом в члены партии, будучи в армии, и это было ультиматумом. Мне было сказано: напиши заявление о поступлении в партию, и мы подпишем твое заявление о посещении подготовительных курсов для поступления в университет. Я написал заявление и был принят в кандидаты в члены партии. Исключение из партии приравнивалось к ликвидации твоих перспектив…» (проф. П. Параска) и т. п.[90]
Здесь необходимо сделать небольшую, но важную ремарку. Было бы неверно, если бы у читателя сложилось впечатление, что вся молдавская интеллигенция была настроена антисоветски. Следует отметить, что подобные настроения, безусловно, присутствовали, но они явно не превалировали, наличествуя наряду со взглядами таких историков-молдаван, как А. Репида, Л. Репида, А. Лазарев, С. Кустрябова, и многих других исследователей, которые не только демонстрировали свои советские взгляды в написанных книгах и статьях, но сделали своими жизненными принципами советскую идеологию. Иными словами, можно констатировать, что расклад в среде творческой и научной интеллигенции был неоднородным, как, собственно, и в постсоветское время, что лишний раз демонстрирует многовекторность ценностных ориентиров молдавского фронтира.
Активную «просветительскую» работу среди молдавских студентов, обучавшихся в Москве, вели представители Посольства Румынии. Многие из возвращавшихся в Молдавию молодых специалистов уже были воодушевлены перспективой работы на светлое будущее румынской идеи. Любопытно, что советское КГБ знало о подобной деятельности своих коллег, но каких-либо превентивных или контрмер не предпринимало[91].
Общие тенденции ослабления авторитета партии в центре и на местах, пробуксовка экономических преобразований, отсутствие престижности занятия сельскохозяйственным трудом привели к миграции малоквалифицированной массы, в частности, в молдавский город, где стали сталкиваться языковые интересы носителей молдавского и русского языков, разносоциальных и разноэтнических сообществ.
Грянувшая в середине 80-х гг. перестройка явилась началом конца столь противоречивого советского времени.
В своей научной публикации 2003 г. «Политэкономия Молдовы» экс-депутат молдавского парламента Владимир Солонарь, чью политическую непотопляемость в 90-х – начале 2000-х гг. можно сравнить только с Юрием Рошкой, справедливо подчеркнул: «После распада СССР она (Республика Молдова. – Прим. авт.) также пережила один из самых резких экономических и социальных спадов в истории. ВВП Молдовы сократился более чем на 60 процентов по сравнению с 1990 годом. В 1980-е годы она входила в число стран со средним уровнем дохода. Сейчас она считается беднейшей страной Европы»[92]. С того времени, увы, ничего не изменилось, разве, что сам В. Солонарь, разочаровавшись в светлом будущем Молдовы, уехал на постоянное место жительства в США.
64
История Молдавской ССР. В 2 т. / АН Молдавской ССР. Ин-т истории; Ред. коллегия: Л.В. Черепнин (отв. ред.) [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1965–1968. Т. 1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 1965. С. 659; Т. 2: От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней / Отв. ред. С.П. Трапезников. 1968. С. 814.
65
Шорников П.М. Поля падения. Историография молдавской этнополитики. Кишинев, 2009. 200 с.
66
Репида Л.Е. Суверенная Молдова. История и современность. Кишинев: ИПФ «Центральная типография», 2008. С. 384; она же. Население Молдовы в интеграционных процессах (40–50-е гг. XX в.). Кишинев, 2000. С. 226.
67
Caşu I. У истоков советизации Бессарабии: Выявление «классового врага», конфискация имущества и трудовая мобилизация, 1940–1941 гг. Chișinău: Cartier, 2013. 458 p.
68
Царанов В.И. Операция «Юг» (О судьбе зажиточного крестьянства Молдавии). Кишинев: Ин-т истории, 1998. С. 101; Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы, 1940–1950-е гг.: [Сб. арх. документов и материалов] с коммент. М.: Изд. центр «Терра», 1994. 800 с. и др.
69
Демьянов С. Молдавия в составе СССР // http://www.world-history.ru/countries_about/2356.html (дата обращения: 12.07.2019).
70
История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней / Ассоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару. Изд. 2-е, перераб. и доп. Chișinău: Elan-Poligraf, 2002. С. 271.
71
Царанов В.И. Операция «Юг» (О судьбе зажиточного крестьянства Молдавии). Кишинев: Ин-т истории, 1998. С. 101.
72
Фуштей Н. Преследование религиозной организации «Свидетели Иеговы». Операция «Север» 1951 г. в МССР: Chişinău, S. n., 2013.
73
Высоцкий В.С. Банька по-белому // Собрание сочинений в одном томе. М.: Эксмо, 2011. С. 130. 240 с.
74
Postică E. Rezistența antisovietică în Basarabia (1944–1950). Chișinău: Știința, 1997. Р. 144–152. 238 p.
75
Ibidem. P. 153–154.
76
В Молдове существует традиция робингудства. В разные исторические эпохи возникали реальные фигуры благородных разбойников, которые для властей являлись бедствием, а для крестьян были последней соломинкой: знаменитый Муха времен Стефана Великого, Тобулток, Котовский и др.
Ф. Бодиу придерживался своих жизненных принципов, которые разделяла и часть крестьян. Находясь на нелегальном положении в 1944–1950 гг. (убит при задержании), без поддержки представителей крестьянства он не продержался бы.
77
Tașca M. Arhivele comunismului. Grupul de rezistenţă antisovietică con-dus de Filimon Bodiu (I) // https://adevarul.ro/moldova/social/arhivele-comunismului-grupul-rezistenta-antisovietica-condus-filimon-bodiu-i-1_50e531b5596d72009166da73/index.html (дата обращения: 22.03.2019); Tasca M. Grupul de rezistenţă antisovietică condus de Filimon Bodiu (II) // https://adevarul.ro/moldova/politica/grupul-rezistenta-antisovietica-condus-filimon-bodiuii-1_50f70c81dc344dc20242ebd0/index.html (дата обращения: 22.03.2019); Tașca M. Grupul de rezistenţă anticomunistă condus de Filimon Bodiu (III) // https://adevarul.ro/moldova/politica/grupul-rezistenta-anti-comunista-condus-filimon-bodiu-iii-1_510961164b62ed5875bb1a1d/index.html (дата обращения: 22.03.2019).
78
В августе 2010 г. и.о. президента Республики Молдова М. Гимпу наградил активных участников названной группы высшей государственной наградой страны – «Орденом Республики».
79
Postică E. Rezistența antisovietică în Basarabia 1944–1950. Chișinău: Știința, 1997. Р. 183–201. 238 p.
80
Dologa L. Armata Neagra: Haiducii morții din Basarabia (I) // http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/armata-neagra-haiducii-mortii-din-basarabia-i-1165672 (дата обращения: 18.03.2019); Dologa L. Armata Neagra: Haiducii morții din Basarabia (II) // http://www.ziare.com/cultura/istoria-culturii-si-civilizatiei/armata-neagra-haiducii-mortii-din-basarabia-ii-1165676 (дата обращения: 18.03.2019).
81
Postică E. «Uniunea Democratică a Libertății» // Țara, 1995, 22 martie.
82
Кстати, слово пропаганда, столь любимое советской идеологией, после распада СССР так напоминало строителям нового коммунистического завтра советскую идеологию, что практически исчезло из использования. Между тем пропаганда той же гражданственности и в России, и в Молдове – тема весьма актуальная.
83
Знает ли история сослогательное накланение? Интервью с В.А. Нехамкиным // Историческая психология и социология истории. № 1. 2011. С. 121–123; Нехамкин В.А. Контрафактические исторические исследования // Историческая психология и социология истории. С. 102–120. Иранский исследователь Наджм Ад-Далими в своей книге «Цена великой измены и распад Советского Союза» справедливо написал, что «предательство навсегда выбросило его (Горбачева. – Прим. авт.) на “помойку истории”» // Перевод 4-й части книги Наджм Ад-Далими см.: https://inosmi.ru/longread/20170602/239485114.html (дата обращения: 22.08.2019).
84
Черчетэрь де лимбэ ши литература молдовеняскэ. Кишинэу, 1984. П. 92, 110.
85
Гагаузский язык относится к младописьменным языкам. Указом Президиума Верховного Совета МССР только в 1957 г. вводится гагаузская письменность на основе кириллицы. См.: Губогло М.Н. Русский язык в этнополитической истории гагаузов. М., 2004. С. 80.
В 1992 г. гагаузская письменность подверглась латинизации, что значительно сблизило гагаузский и турецкий языки. В этом контексте улавливается прямая связь с румыно-молдавским примером.
86
Ченушa Ф.Е. Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам I междунар. заочной науч. – практ. конф. № 1 (1). М.: МЦНО, 2016. С. 44. С. 43–48.
87
Прорумынские заявления Е. Доги привели к тому, что часть живущих в России молдаван (и не только) стали собирать подписи о лишении композитора российского гражданства и депортации его в Республику Молдова. См.: Петиция с требованием отобрать гражданство Российской Федерации у молдавского композитора Евгения Доги появилась на сайте Change.org // https://esp.md/sobytiya/2016/08/10/v-seti-sobirayut-podpisi-za-lishenie-dogi-rossiyskogo-grazhdanstva (дата обращения: 11.09.2016); Евгений Дога: лишить российского гражданства и депортировать из России// http://chng.it/hsxR7jPJMR (дата обращения: 20.08.2019).
88
Демьянов С. Молдавия в составе СССР // http://www.world-history.ru/countries_about/2356.html (дата обращения: 12.07.2019).
89
Mустяцэ C.Г. Что значило быть историком в советской Молдавии // Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 102.
90
Там же. С. 99–106; см. также: Caşu I. Opozanţi politici în RSSM după 1956: spre o tipologizare bazată pe dosare din arhiva KGB / Coord. S. Musteaţă, I. Caşu // Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunis-mului în Europa. Chişinău: Cartier, 2011. P. 512–562.
91
Вообще Румыния представляет собой уникальный феномен. Являясь одним из наиболее слабых государственных образований Европы, эта страна проявляла удивительную волю к достижению собственных интересов:
– с самого образования она поставила перед собой цель объединения восточнороманских народов и всеми силами старалась эту идею воплотить в жизнь;
– в годы войны и в послевоенное время про эту страну ходила шутка: «Какое государство в этой войне только наступало?»;
– войдя в состав стран соцлагеря, Румыния всегда проводила довольно независимую политику. СССР ввел войска в Чехословакию, в Венгрию, а с Румынией поддерживал ровные отношения, несмотря на то что она вела открытый диалог с Западом, поддерживала нерекомендуемые Союзом отношения с Израилем и неоднократно заявляла Москве свое несогласие по ряду ключевых вопросов, в том числе в связи с отторжением Бессарабии и Северной Буковины.
92
Солонарь В. Политэкономия Молдовы // http://web.worldbank.org/archive/website00504/WEB/PDF/SOLONA-5.PDF (дата обращения: 10.12.2019).