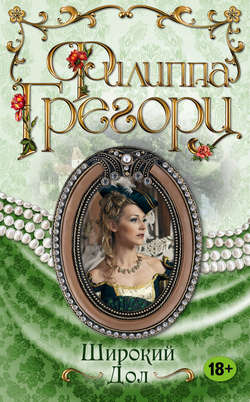Читать книгу Широкий Дол - Филиппа Грегори - Страница 2
Глава вторая
Оглавление– Просто не знаю, что я буду делать, когда ты уедешь, – как-то сказал мне папа. Сказал спокойно, самым обычным тоном, когда мы ехали к деревенскому кузнецу, чтобы подковать лошадей.
– Я никогда не уеду отсюда! – заявила я с неколебимой уверенностью. Я, собственно, слушала отца вполуха, потому что каждый из нас вел в поводу одного из тех могучих тяжеловозов, на которых обычно пахали поле. Папа-то легко с этим справлялся, сидя на своем высоченном жеребце, а моя изящная кобылка была этим рабочим конягам едва ли по плечо, и мне все время приходилось ее понукать или уговаривать, чтобы она не отставала от папиного коня.
– Да нет, когда-нибудь тебе наверняка придется уехать, – сказал папа, поглядывая поверх зеленой изгороди на то, как плуг, запряженный второй нашей парой тяжеловозов, переворачивает валы по-зимнему раскисшей земли. – Выйдешь замуж и уедешь к своему мужу. А может быть, ты станешь красавицей и будешь служить фрейлиной при дворе, хотя от нашего королевского двора мало что осталось – там одни немецкие уродины, которых в народе не зря называют «ганноверскими крысами»[5]. Но, так или иначе, ты окажешься далеко отсюда, и тебе уже не будет никакого дела до Широкого Дола.
Я рассмеялась, настолько нелепыми казались мне отцовские предположения о том, что ждет меня в будущем. Моя взрослость была еще так далеко, что ничто не могло поколебать во мне веры в наше триединство – моего отца, моей земли и меня.
– Я ни за что не выйду замуж, – сказала я. – Я останусь здесь и буду работать вместе с тобой, и я всегда, как и ты, буду заботиться о Широком Доле.
– Да, сейчас-то мы вместе с тобой о нем заботимся, – ласково сказал папа, – вот только потом, когда меня не станет, хозяином здесь будет Гарри, а я предпочел бы, чтобы ты стала хозяйкой своего собственного дома, а не жила здесь из милости, постоянно ссорясь с братом и его женой. И потом, Беатрис, это сейчас тебе нравится заниматься землей, хозяйством, а через несколько лет ты станешь девушкой и захочешь ездить на балы в красивых платьях. Кто же тогда станет присматривать за посевом озимых?
Я снова рассмеялась; я была исполнена детской уверенности, что хорошее никогда не кончается.
– Гарри тут ничего не знает, да и в хозяйстве он совсем не разбирается, – заявила я не допускающим возражений тоном. – Если у него спросить, что такое «шотгорн»[6], он решит, что речь идет о музыкальном инструменте. Да его здесь уже сто лет не было! Ну, по крайней мере, полгода! Он даже наших новых посадок не видел! Это ведь я придумала там деревья посадить, а ты взял и посадил! И, помнишь, тот человек, что их сажал, сказал, что я – настоящий маленький лесник, а ты еще пообещал сделать для меня кресло из этих деревьев, когда я стану старенькой леди! Гарри просто не может быть здесь хозяином! Его же здесь никогда не бывает!
Я все еще ничего не понимала. Я была еще совсем глупышкой. Хотя уже не раз видела, как старший сын в семье наследует ферму, а младший вынужден каждый день работать на чужих людей или вовсе уезжать из наших мест и где-то служить, чтобы собрать денег на свадьбу со своей терпеливой возлюбленной. Но я никогда не воспринимала этих людей как настоящих землевладельцев, сквайров, каковыми являлись мы.
Я и вообразить себе не могла, что тот закон, который отдает предпочтение старшему сыну, пренебрегая всеми остальными детьми, может когда-либо быть применен и ко мне. Я знала, конечно, что деревенские девчонки, мои ровесницы, работают порой наравне со взрослыми женщинами, чтобы заработать денег для семейного сундучка. Я видела, как сестры этих девчонок, всего на несколько лет их старше, высматривают себе в женихи старших сыновей в семье – всегда только старших! Но я никогда не думала, что это закоснелое, безумное правило – что старший сын в семье получает все – коснется и нас. Подобное, с моей точки зрения, было вполне характерно для жизни бедняков, как и ранняя смерть, как и плохое здоровье или голод зимой. Но нас все это совершенно не касалось.
Как ни странно, я никогда не думала о Гарри как о сыне и наследнике; точно так же я никогда не думала о маме как о хозяйке поместья Широкий Дол. Они были просто частными лицами, которых редко можно было увидеть за пределами нашего парка. Они были как бы второстепенными персонажами, декорацией на той сцене, где царили Хозяин и я. Так что слова отца меня не встревожили – они попросту пролетели мимо моих ушей.
Мне еще предстояло многому научиться, многое понять – ведь тогда я была еще слишком мала. Я никогда даже не слышала, например, такого слова, как «майорат», означавшего, что по закону крупное землевладение всегда переходит к следующему (или старшему) наследнику мужского пола – пусть даже это весьма дальний родственник и пусть в семье имеется еще десяток родных дочерей, обожающих родные места. С чисто детской способностью слышать и воспринимать только те вещи, которые были мне интересны, я внимала рассуждениям насчет следующего хозяина Широкого Дола как чему-то столь же непонятному и далекому, как музыка сфер.
И пока я старалась выбросить из головы все мысли о наследнике поместья, отец, натянув поводья, остановил коня возле колючей зеленой изгороди из терновника и шиповника, чтобы побеседовать с одним из наших арендаторов, который как раз эту изгородь подстригал.
– Доброе утро, Джайлс, – поздоровалась с ним и я, кивнув ему головой, но осталась сидеть в седле – точная копия доброжелательной снисходительности моего отца.
– Доброе утро, мистрис. – Джайлс почтительно приподнял шапку скрюченной артритом рукой. Он был на несколько лет моложе моего отца, но плечи его уже согнулись под бременем нищеты. Многие годы он занимался расчисткой заболоченных канав, работал на раскисшей, пропитанной влагой земле в полях, немало времени проводил в лесу на замерзших тропах, и от этого его кости теперь поразил мучительный артрит, от которого, похоже, ничуть не помогало то невероятное количество грязноватой фланели, которой он обмотал свои тощие ноги. Его коричневая рука, точно насквозь пропитанная землей (нашей землей!), была узловатой, как ствол падуба.
– А она уже настоящая юная леди, – сказал Джайлс моему отцу. – Грустно думать, что в один прекрасный день ей все-таки придется нас покинуть.
Я так и уставилась на этого старика, а отец кончиком хлыста смахнул с изгороди какую-то ветку и медленно промолвил:
– О да… Впрочем, землей должны заниматься мужчины, а юные девушки замуж должны выходить. – Он помолчал и прибавил: – Ничего, молодой хозяин скоро домой вернется, вот только со своими книгами покончит. У него впереди еще много времени, успеет здесь всему научиться. Девочке, конечно, неплохо живется среди этих полей и холмов, да и мать ей соответствующие уроки дает. Вот только времена сейчас настали плохие, и следующему хозяину Широкого Дола непременно нужно хорошо во всем разбираться и знать, как в этом новом мире следует жить.
Я притихла и внимательно слушала. Даже моя лошадка, даже огромные тяжеловозы замерли, словно тоже прислушивались к тому, как мой отец своими тихими смертоносными словами рвет в клочки надежный и безопасный мир моего детства.
– Да, – говорил он, – Беатрис – хорошая девочка и в земле понимает не хуже иного управляющего, хоть и совсем еще малышка. И все-таки она когда-нибудь выйдет замуж за какого-нибудь приличного человека и уедет отсюда в чужие края, а мое место займет молодой Гарри. Надеюсь, и учеба эта ему тогда очень даже пригодится.
Джайлс кивнул, и оба помолчали. Это было такое долгое, полное тайного смысла, деревенское молчание, прерываемое лишь весенним пением птиц. Да и некуда им было спешить этим бесконечным, словно безвременным, полуднем, так неожиданно отметившим конец моего детства. Казалось, мой отец уже сказал все, что должен был сказать, и больше ему нечего было к этому прибавить. А Джайлс словно и вовсе ни о чем не думал, а потому ничего и не говорил, а просто смотрел в пространство. Ну, а я молчала, потому что не умела словами выразить ту боль, что терзала мою душу. Всего на несколько мгновений передвинули свои стрелки жестокие часы судьбы, но все мои представления о мире взрослых уже разлетелись вдребезги. Итак, землю всегда забирает себе драгоценный старший сын семейства, а остальные, особенно девочки, могут отправляться куда угодно. Хорошо еще, если отыщется мужчина, который возьмет за себя такую девушку. Значит, и моя жизнь в Широком Доле – это отнюдь не исключительная привилегия. Значит, отъезд Гарри – это вовсе не ссылка, а меня оставили дома просто потому, что я, девочка, не стою того, чтобы тратить деньги на мое образование!
Обучение Гарри в привилегированной школе отнюдь не означало, что к жизни в Широком Доле он больше не вернется; это была необходимая подготовка к дальнейшей его жизни здесь в качестве будущего хозяина поместья. Пока я наслаждалась этим простором и своей свободой единственного оставшегося дома ребенка, Гарри подрастал и получал хорошее образование, и вскоре он должен был вернуться и прогнать меня из родного дома. Значит, папа больше всех на свете любит вовсе не меня! Нет, не меня! Не меня!
Я глубоко, со всхлипом, вздохнула, но тихо-тихо, чтобы никто не услышал. И посмотрела на отца с какой-то новой, непривычной прозорливостью. Он, может, и любит меня всем сердцем, думала я, но все же не настолько, чтобы отдать мне Широкий Дол. Он, может, и желает мне самого лучшего, но, с его точки зрения, самое лучшее – это подыскать мне подходящего мужа и навсегда сослать меня из того единственного места на свете, которое я только и могу считать своим домом. Насчет будущего Гарри у него, возможно, имеются самые грандиозные планы, но обо мне-то он совершенно забыл! Как это он – и забыл обо мне?
В общем, тот теплый весенний день и стал концом моего детства; тот день, когда мы с отцом остановились на одной из дорожек близ нашей деревни, ведя в поводу двух огромных тяжеловозов, и отец завел с Джайлсом, белым как мел и смотревшим в никуда пустыми глазами, разговор о наследнике. В те минуты меня и покинула абсолютная уверенность в том, что я и есть хозяйка той земли, которую люблю всем сердцем, и больше я подобной уверенности – во всяком случае, в полной мере, – уже никогда не испытывала. Я расставалась с детством, охваченная душевной болью, исполненная гнева и всевозможных бунтарских мыслей. Я вступала во взрослую жизнь, чувствуя горький привкус во рту и испытывая пока что довольно бесформенную решимость ни за что и никуда не уезжать из Широкого Дола. Это мой родной дом, думала я, и я никогда его не покину! Я не сдамся, не подчинюсь судьбе, не уступлю свое законное место старшему брату! А если правила этого мира таковы, что девушки обязаны уезжать из отчего дома, значит, этому миру придется перемениться! Я же не переменюсь никогда.
* * *
– Тебе придется поторопиться и поскорее привести себя в порядок и переодеться, – сказала мне мама, и по голосу ее я вновь почувствовала, что она, как и всегда, мной недовольна. Она брезгливо приподняла подол своего зеленого шелкового платья, чтобы не испачкать его и не намочить в лужах, которыми покрыт был конюшенный двор. Однако она все же вышла к нам, когда мы с отцом с грохотом влетели в ворота. У мамы вечно был такой вид, словно она самым невинным образом противопоставляет себя мне и отцу. Благодаря ей я очень рано поняла, что вовсе не обязательно спорить или горячо отстаивать свои убеждения, чтобы противостоять кому-то или чему-то. Можно просто отвернуться от того или иного человека, отвернуться от тех идей, которые он пропагандирует, и от того, чем он с таким восторгом занимается, отвернуться от его любви. Не выйди она замуж за папу, она, возможно, стала бы женщиной более прямодушной, более великодушной и доброй. Но под воздействием брака с ним ощущение собственного предназначения в ней как бы скисло и превратилось в безысходную тоску. Те отношения, которым следовало бы быть прямыми и честными, превратились в вечное невысказанное противостояние.
– Пожалуйста, поторопись, Беатрис, – с некоторым нажимом повторила она, – и непременно надень свое бледно-розовое шелковое платье. – Я соскользнула с седла и бросила поводья одному из конюхов. – Сегодня у нас к обеду особый гость, – пояснила мама. – Директор той школы, где учится Гарри.
Отец тут же обернулся и удивленно на нее уставился.
– Да, – словно обороняясь, сказала она, – это я его пригласила. Я очень беспокоюсь о нашем мальчике. Извини, Гарольд, мне, конечно, следовало сказать тебе раньше, но я так давно послала ему это приглашение… Я уж решила, что он и не приедет вовсе, иначе я бы, разумеется, сказала тебе заранее…
Я уже видела, что отец начинает закипать, слушая ее лепет, и отлично его понимала. Однако ему пришлось сдержать раздражение: скрипнула калитка, ведущая в розарий, и к нам приблизился высокий человек, с головы до ног одетый в черное; лишь на шее у него я заметила тонкую белую полоску воротничка священника.
– Доктор Ятли! – воскликнул отец, вполне убедительно демонстрируя радость, вызванную столь «неожиданной» встречей. – Как приятно вас видеть! Какой сюрприз! Если бы я заранее знал, что вы приедете, я, разумеется, остался бы дома и сам вас встретил!
Высокий священник вежливо улыбнулся и поклонился, и я сразу поняла, что это человек в высшей степени светский, холодный и проницательный. Я склонилась в реверансе, но, выпрямляясь, успела еще раз быстро на него глянуть. Нет, это был отнюдь не светский визит. У доктора Ятли была вполне конкретная цель, и он явно был намерен выполнить свою миссию до конца. Я заметила, какой настороженный взгляд он бросил на моего отца, и мне очень захотелось немедленно узнать, что этому человеку от нас нужно.
Он прибыл, и мне это вскоре стало совершенно ясно, чтобы помочь маме осуществить ее давний замысел. Она по-прежнему мечтала о возвращении Гарри, ибо ей нечем было заполнить ту пустоту, которая образовалась в ее жизни в связи с его отъездом. И доктор Ятли по неким причинам, о которых я была не состоянии хотя бы догадаться, был готов принять ее в сторону и защитить эту слабую и бледную леди в ее попытках противостоять мужу, грубому мужлану и хозяину поместья. Впрочем, ему и самому почему-то не менее сильно хотелось избавиться от Гарри, и в этом их с мамой желания полностью совпадали.
Я спустилась к обеду в девчачьем платье из нежно-розового шелка и вела себя очень прилично, в основном помалкивая и отвечая лишь на вопросы, обращенные непосредственно ко мне; впрочем, обращались ко мне крайне редко. Я сидела лицом к матери. Одна из слабостей моего отца заключалась в том, что он, сидя во главе стола, непременно усаживал гостя-мужчину на противоположном его конце, выказывая этим ему особое уважение. Так что мы с мамой – обе одинаково неважные персоны женского пола – молча сидели напротив друг друга, а мужчины разговаривали, вернее, перекликались через весь длинный стол у нас над головами.
Доктор Ятли явно приехал для того, чтобы убедить моего отца забрать Гарри из его дорогой привилегированной школы. Хотя было совершенно ясно, что, если ему это удастся, он потеряет ученика, за которого безоговорочно платили по всем дополнительным счетам и которому, скорее всего, потребовался бы наставник (разумеется, из той же школы) для подготовки к поступлению в университет; кстати сказать, этого наставника Гарри затем вполне мог бы взять с собой в большой тур по Европе. В общем, отчислив Гарри, доктор Ятли мог бы сказать «прощай» тысячам фунтов регулярных поступлений. Было совершенно непонятно, с чего ему вдруг захотелось избиться от такого выгодного ученика? Что такого особенного мог натворить Гарри. Какова была эта страшная тайна? Не была ли она слишком постыдной, чтобы доктор Ятли мог прямо и открыто рассказать все моему отцу? Почему он не мог просто закрыть глаза на проступок Гарри – каким бы этот проступок ни был – и продолжать класть в карман причитающиеся за обучение мальчика немалые денежки?
Однако доктор Ятли был слишком умен, осторожен и знал свое дело. Он отложил пока что тему возможного отчисления Гарри и принялся нахваливать ростбиф и восхищаться вином (хотя это было далеко не самое лучшее наше вино, обыкновенный кларет, как я заметила). Он, явно ничего не понимая в сельском хозяйстве и земледелии, ухитрился все же втянуть моего отца в оживленный разговор о всяких технических новинках, которые нам, с его точки зрения, следовало непременно испробовать. Отец, естественно, сразу повеселел и даже предложил доктору Ятли приехать к нам на несколько дней поохотиться, если он, конечно, сумеет выкроить себе небольшие каникулы. Доктор Ятли был вежлив, но отвечал уклончиво.
Как только отец начал таять, испытывая к гостю самые теплые чувства, и откупорил очередную бутылку, мама поспешила встать из-за стола и оставить джентльменов наедине. С острым чувством сожаления, свойственного четырнадцатилетней девочке, которая весь день провела в седле, я смотрела, как чудесная яблочная шарлотка нетронутой уплывает на кухню. Но мама глазами велела мне следовать за нею, и мы удалились, а отец и доктор Ятли, проводив нас вежливым поклоном, вернулись к портвейну и прерванной беседе.
Я заметила, что обычно бледное лицо матери раскраснелось от удовольствия, когда она, открыв рабочую шкатулку, вручила мне мое вышивание и сообщила в полном восторге:
– Твой брат Гарри приедет домой сразу после окончания этой учебной четверти и больше никогда в это ужасное место не вернется! Если, конечно, папа согласится.
– Так рано? – спросила я, остро чувствуя необходимость защитить свои позиции. – Но почему он возвращается? Что он такого сделал?
– Сделал? – Мать посмотрела прямо мне в глаза; в бледной синеве ее взгляда не было и намека на попытку уйти от этого неприятного вопроса. – Ничего он не сделал! Разве мог наш милый Гарри что-нибудь сделать? Все дело в том, что с ним сделали эти жестокие дикари-мальчишки! – Она запнулась, поколебалась немного, якобы выбирая моток шелка, потом снова заговорила: – Помнишь, когда он в прошлый раз приезжал домой на каникулы, ему понадобилось заклеить грудь пластырем? – Я, естественно, не помнила, но кивнула. – Мы обе сразу, и няня, и я, заметили на нем, бедняжке, следы побоев. Его избили, Беатрис! Он умолял меня никому ничего не говорить и ничего не предпринимать, но чем больше я думала об этом, тем больше крепла во мне уверенность, что его следует из этой школы забрать. Я написала доктору Ятли, и он пообещал мне выяснить, что происходит. А потом вдруг взял и прямо сегодня приехал к нам! – Голос матери был полон гордости. Еще бы, ведь предпринятые ею действия увенчались искомым результатом, хотя и весьма драматическим. Помолчав, она вполголоса продолжила: – Доктор Ятли сообщил мне, что Гарри силой заставили присоединиться к одной школьной группировке, забавы которой были связаны с системой поистине шокирующих правил и наказаний. И во главе этой группировки стоял… самый плохой мальчишка в школе, сын… – Она снова помолчала. – Ну, это не так уж важно, чей он сын. Просто этого человека доктор Ятли ни в коем случае обижать не должен. Так вот, сын этого человека постоянно угрожал Гарри и при этом заставлял его сидеть вместе с ним в классе, спать на соседней с ним кровати, всячески над ним издевался и в течение всей последней четверти его запугивал. Доктор Ятли говорит, что у него нет никакой возможности их разделить; он высказал предположение – ох, я так надеюсь, что твой папа с этим согласится! – что Гарри уже в таком возрасте, когда он мог бы продолжать свои занятия и дома, а заодно учиться управлять имением.
Мама не заметила, как я, низко опустив голову над вышиванием, иронично вздернула бровь. Гарри будет учиться управлять имением? Вот уж смех! Он прожил здесь всю жизнь, но до сих пор толком не знает даже, где проходят границы наших владений. Он каждое воскресенье проезжал по нашей лесной дороге, но понятия не имеет, где в лесу гнездится соловей, а где протекает ручей, в котором всегда можно поймать форель. Если Гарри собирается что-то узнать о нашем имении, то остается надеяться, что он сумеет найти нужные сведения в какой-нибудь из книг, потому что он ни разу даже в окно библиотеки не посмотрел, когда в последний раз домой приезжал.
Но на самом деле я отнюдь не была спокойна; мало того, сообщение матери вызвало у меня нервную дрожь. Максимум того, что в данный момент было известно Гарри о Широком Доле, можно было почерпнуть в любом дешевом издании народных сказок или преданий. И все же, как только он прибудет домой – по требованию мамы, а вовсе не потому, что вдруг понадобился отцу, – он может постепенно превратиться в такого сына, каким хотел его видеть папа, какого папа искал во мне. Он может на самом деле стать наследником имения!
Джентльмены так и не вышли в гостиную к чаю, и мама очень рано отослала меня спать. После того как горничная заплела мои густые каштановые волосы в толстую косу, свисавшую до пояса, я отослала ее, вылезла из постели и устроилась на подоконнике. Моя спальня находилась на втором этаже, и окна ее смотрели на восток, так что мне был виден весь наш розарий, широким серпом огибавший фасад дома и его восточный торец; чуть дальше, за розарием, виднелись персиковые деревья, ягодные кусты и огородные грядки. Мне не нравились куда более просторные комнаты, расположенные в передней части дома и выходившие на юг; там, кстати, находилась и спальня Гарри. А со своего уютного сиденья на подоконнике мне был виден не только сад, залитый лунным светом, но и лес, подступавший к самым воротам. В холодном ночном воздухе явственно чувствовались знакомые ароматы Широкого Дола. Прежде всего, многообещающий запах травы, зреющей на заливных лугах и влажной от ночной росы. Время от времени до меня доносилось из леса беспокойное щебетанье черного дрозда и резкое тявканье самца лисицы. Внизу слышался рокочущий бас отца – он что-то рассказывал гостю о лошадях. Мне было ясно: этот тихий человек в черном сумел обо всем с папой договориться и Гарри действительно вскоре будет дома.
Какая-то темная тень промелькнула по лужайке, прервав мои размышления. Я узнала этого парнишку: он был помощником нашего егеря и охранял прикормленную дичь от браконьеров. Мы с ним были примерно ровесниками, но он выглядел старше меня, крепкий, как молодой бычок; за ним по пятам всегда следовала крупная собака-ищейка, помесь шотландской овчарки с борзой, специально обученная выслеживать и ловить браконьеров. Парень, видно, заметил свечу в моем окне и через весь сад (где ему совершенно не полагалось находиться) подошел и остановился прямо у меня под окном (что ему тоже совершенно не полагалось делать), непринужденно опершись одной рукой о теплую стену из светлого песчаника. Шелковая шаль, которую я накинула на ночную рубашку, показалась мне вдруг какой-то слишком скользкой и легкой, когда я увидела, каким горячим взглядом он на меня смотрит и улыбается, задрав голову вверх.
Его звали Ральф, и мы с ним были не то чтобы друзьями, но все же знали друг друга. Однажды летом, когда Гарри как-то особенно сильно нездоровилось и я, оставшись без присмотра, могла пользоваться полной свободой и бегать, где захочу, я как раз и обнаружила этого нечесаного и вообще не слишком опрятного мальчишку у нас в розарии. Разумеется, я со всем высокомерием шестилетней малышки приказала ему немедленно убираться вон, а он вместо ответа сунул меня носом прямо в розовый куст. Впрочем, увидев мое потрясенное исцарапанное лицо, он тут же любезно предложил меня оттуда вытащить. Я сделала вид, что принимаю его предложение, ухватилась за протянутую им руку, но, едва оказавшись на ногах, тут же изо всех сил вцепилась в эту руку зубами, а потом удрала – но не в дом, который мог бы послужить мне убежищем, а в лес, через крытый вход на кладбище. Это мое убежище было недоступно для мамы и няни, да они и понятия не имели о тех узких звериных тропах в зарослях, по которым я туда пробиралась, и обычно были вынуждены, стоя у ворот, долго меня звать, пока я не сочту нужным объявиться. Но этот коренастый парнишка ужом пробрался сквозь заросли, следуя за мной по пятам, и вскоре объявился в моем убежище – маленькой ложбинке, скрытой кустами, одичавшими розами и всевозможными сорняками.
На его грязной мордашке сияла улыбка до ушей, похожая на трещину, и я невольно улыбнулась ему в ответ. Это и стало началом нашей дружбы, которая, как это часто бывает в детстве, продолжалась все то лето, а потом вдруг прервалась, причем столь же мгновенно и беспричинно, как и началась. Но тем жарким летом я каждый день удирала в лес от нашей горничной, которой и без того дел хватало, а тут вдруг еще меня препоручили ее заботам, и мы с Ральфом встречались на берегу Фенни. С утра мы обычно ловили рыбу и плескались в речке, а потом отправлялись в долгие походы до самой деревенской дороги, или лазили по деревьям и грабили птичьи гнезда, или просто ловили бабочек.
В то лето я пользовалась небывалой свободой, потому что Гарри болел и за ним днем и ночью в четыре глаза следили мама и няня. Ральф же был свободен всегда – с тех пор, как научился ходить, потому что его мать, неряха Мег, вместе с ним обитавшая среди леса в полуразвалившейся лачуге, никогда не тревожилась из-за того, куда он пошел и что сделал. В общем, он был для меня идеальным товарищем по играм – именно он учил меня различать породы деревьев и запоминать, куда ведут тропинки в лесу, раскинувшемся вокруг нашей усадьбы таким широким полукругом, что за одно утро до его противоположного конца моим маленьким ножкам было просто не дойти.
Мы с Ральфом играли, как играют обычно деревенские дети – мало говорили, но много делали. Однако лето скоро кончилось; Гарри поправился; мама снова начала с бдительностью орлицы следить за белизной моих передничков; и теперь с утра все мое время было вновь отдано урокам. Если в начале осени Ральф все еще ждал, когда я снова приду в лес, то с наступлением холодов, когда листья стали сперва желтыми и красными, а потом облетели, он ждать перестал. Похоже, ему уже поднадоели наши игры, и он стал по пятам ходить за старшим егерем, обучаясь умению охранять дичь и отстреливать обнаглевших хищников. Папа рассказывал, что в деревне о Ральфе отзываются как о весьма умелом и прилежном парнишке. Особенно хорошо ему удавался уход за юными фазанятами. В общем, когда Ральфу исполнилось восемь, он стал на законном основании получать настоящее жалованье – пенни в день в течение всего охотничьего сезона. А к двенадцати годам он уже получал половину жалованья взрослого егеря – и в сезон, и не в сезон – и при этом выполнял работы не меньше взрослых.
Мать Ральфа появилась в наших краях неизвестно откуда; отец его давно бросил семью и исчез, и это означало, что сам Ральф был свободен от верности своим деревенским родственникам. Кстати сказать, именно это и мешало местным браконьерам действовать в нашем лесу безнаказанно. Большим преимуществом для Ральфа, помощника егеря, было также то, что их с матерью хижина стояла прямо посреди леса, на берегу Фенни; они понаставили клеток с самками и фазанятами прямо вокруг своего домишки, и стоило где-нибудь поблизости от клеток с фазанами хрустнуть хоть веточке, как с Ральфа тут же слетал любой, даже самый глубокий сон.
В детстве восемь лет – это все равно что целая жизнь. И теперь я успела почти позабыть то лето, когда мы с этим грязным маленьким постреленком были неразлучны. Но отчего-то я всегда испытывала некоторую неловкость, проезжая мимо Ральфа на своей хорошенькой лошадке в идеально сшитой амазонке и кокетливой шляпке с загнутыми с трех сторон полями. Особенно если ехала одна. Когда он, свесив чуб до земли, кланялся папе и кивал мне, я без должной легкости, испытывая, пожалуй, даже некоторое внутреннее затруднение, говорила ему: «Добрый день». И меня вовсе не привлекала перспектива каких бы то ни было бесед с Ральфом, если я ехала одна. Мне и теперь было немного неприятно, когда он с чрезвычайной самоуверенностью подошел к нашему дому, прислонился к стене и стал смотреть на меня, сидевшую на подоконнике при свете свечи.
– Ты простудишься, – сказал он, и голос у него был совсем уже мужской, низкий. За последние два года он здорово раздался в плечах, и в нем явственно чувствовалась молодая и уверенная сила.
– Возможно, – бросила я в ответ, но с подоконника не слезла, ибо это означало бы, что я до некоторой степени ему подчинилась… а также – что я заметила, как он на меня смотрит.
– Ты что, за браконьерами здесь решил поохотиться? – задала я совершенно ненужный вопрос.
– Ну, с ружьем и собакой я бы вряд ли отправился за девушками ухаживать, – сказал он, тягуче растягивая слова на манер жителей холмов. – Хорошенькую же девчонку я заполучил бы с помощью ружья и капкана, вам не кажется, мисс Беатрис?
– Ты еще мал, чтобы о девушках думать, – высокомерно заявила я. – Ты же не старше меня.
– А я вот все думаю – и о девушках, и о том, как за ними ухаживать, – сказал он. – Так приятно думать о теплой ласковой девчонке, когда ждешь один в лесу холодной ночью. Да и не так уж я мал, мисс Беатрис, вполне гожусь, чтобы девушкам нравиться. В одном вы правы: мы с вами ровесники. Но неужели девушка, которой почти пятнадцать, слишком юна, чтобы теплой летней ночью думать о любви и поцелуях?
Его темные глаза неотрывно смотрели прямо на меня и, по-моему, даже светились в лунном свете. Хорошо, думала я, что я сижу так высоко и вокруг стены моего родного дома. И все же мне отчего-то стало немного грустно.
– Да, если она – настоящая леди, – твердо заявила я. – Впрочем, я бы и на месте деревенских девушек как следует подумала, прежде чем с тобой дело иметь.
Ральф только вздохнул в ответ, и деревенская тишь заполнила паузу, возникшую в нашем странном разговоре. Пес, зевнув, вытянулся на гравии у ног своего хозяина. И я, сама себе противореча, вдруг страстно захотела, чтобы Ральф снова посмотрел на меня сияющими и будто обжигающими глазами, а я перестала бы называть себя леди и без конца напоминать ему, что он – никто и ничто. Но он больше на меня не смотрел, а стоял, опустив голову и уставившись в землю. Я судорожно пыталась придумать, что бы такое ему сказать, и чувствовала себя на редкость глупой и неуклюжей; и потом, мне было ужасно жаль, что я отчего-то сразу повела себя с ним так неприязненно и заносчиво. Затем он переступил с ноги на ногу, забросил на плечо ружье, и я, несмотря на густые сумерки, заметила, что он улыбается, а значит, мои сожаления совершенно напрасны.
– Полагаю, любая леди устроена в точности так же, как и деревенская девушка, когда ей холодно, а ты обнимаешь ее на тихом сеновале или в уютной ложбинке среди холмов, – сказал он. – И если мне моих пятнадцати лет для любви вполне достаточно, то, полагаю, и для вас ваших пятнадцати лет тоже. – Он немного помолчал и прибавил: – Госпожа моя, – и эти два слова прозвучали у него, словно любовное признание.
Я была настолько потрясена, что у меня перехватило дыхание, и пока я молчала, как дура, Ральф свистнул своему черному псу, повсюду, как тень, следовавшему за ним, и удалился, даже не попрощавшись. Я видела, как он шел – точно какой-то лорд по своим владениям! Его темный силуэт, отчетливо видимый на фоне розовых кустов и лужайки, вскоре исчез за калиткой и растворился в ночной темноте. Я же продолжала сидеть на подоконнике, прямо-таки похолодев от такой наглости. Затем, охваченная внезапным приступом ярости, вскочила и собралась уже броситься к отцу и сказать, чтобы он велел высечь противного мальчишку кнутом. Путаясь в полах длинного капота, я решительно подошла к двери и вдруг остановилась, осознав, что мне по какой-то непонятной причине совсем не хочется, чтобы Ральфа высекли кнутом или вышвырнули из поместья. Его, безусловно, следовало наказать, но это должен был сделать не мой отец и даже не наш егерь. Я сама найду для него такое наказание, которое способно не хуже кнута стереть с его лица эту оскорбительную усмешку! И я, уже планируя сладкую месть, улеглась в постель, но заснуть не могла. Сердце мое билось так сильно, что я даже удивилась: неужели это оно от гнева так бьется?
Наутро я о Ральфе почти позабыла. И совсем, ну совсем ничего не значило то, что я, желая прокатиться верхом, поехала в сторону его дома. Впрочем, я знала, что Ральф всю ночь будет дежурить в лесу, высматривая браконьеров, и уж до полудня точно домой не вернется – в эту свою ужасную сырую лачугу на берегу Фенни возле заброшенной мельницы. Течение в этом месте было настолько переменчивым, что еще мой дед, отец моего отца, построил для нашего поместья новую мельницу несколько выше по течению. Старая мельница давно уже развалилась, да и домик тогдашнего мельника, стоявший неподалеку от нее, требовал ремонта; казалось, что он постепенно тонет, погружается во влажную, заболоченную землю. Лес уже почти вплотную подступил к дверям этой жалкой хижины с низкой крышей, и я, проезжая мимо, иной раз думала, что чем выше становится Ральф, тем ниже ему приходится нагибаться, чтобы пройти в дверь. В домике было всего две крошечных комнатки.
Мать Ральфа, Мег, была женщиной высокой, ширококостной, но довольно худощавой. С темными вьющимися волосами и несколько диковатым, опасным взглядом – в точности как и у самого Ральфа. «Сущая цыганка», с удовольствием называл ее мой отец.
– Она действительно цыганка? – холодно переспрашивала моя светловолосая мать.
Мы с отцом часто ездили к старой мельнице. Возле убогой хижины Мег отец обычно останавливался, и хозяйка выходила ему навстречу, низко наклоняясь, чтобы не удариться о притолоку, и высоко поднимая подол юбки. Она шагала босиком по сочащейся влагой земле, и мне были видны ее грязные ноги, сильные и загорелые. Взгляд моего отца она встречала широкой, гордой улыбкой, как равная, и всегда выносила ему в грубой глиняной кружке эль собственного приготовления. Когда он бросал ей монету, она ловко ее ловила, и в ее поведении не было и намека на подобострастность; монету она принимала как должное, как причитающуюся за угощение плату, и порой я замечала даже, как они с отцом обмениваются легкой улыбкой взаимопонимания.
Я не понимала, что может быть общего у этой диковатого вида отшельницы с моим отцом, хозяином крупного поместья. Но не раз бывали такие случаи, когда отец, исполненный раздраженного нетерпения по отношению к матери с ее мелочными пустыми разговорами и вечным недовольством, вскакивал на коня, стремясь оказаться как можно дальше от нашего дома, и мы с ним вроде бы самым естественным образом тут же направлялись в сторону реки, к знакомой маленькой развалюхе, со всех сторон окруженной лесом. И «цыганка» Мег выходила нам навстречу босиком, покачивая бедрами и словно пританцовывая, и глаза ее светились умно и понимающе.
В деревне ее считали вдовой. Отец Ральфа, черная овца в одной из старейших семей нашей деревни, был отправлен служить на флот, а потом исчез: то ли умер, то ли пропал, то ли сбежал. Немало деревенских мужчин провожали Мег глазами, точно голодные псы, но она даже головы ни направо, ни налево не поворачивала. И только мой отец, сквайр, вызывал улыбку на ее устах, только ему темные глаза Мег смотрели прямо в лицо. Ни одного другого мужчину она никогда и второго взгляда не удостаивала. И, хотя предложений руки и сердца у нее хватало, они с Ральфом так и оставались жить в маленьком темном домике у реки.
– Сто лет назад ее сожгли бы как ведьму, – сказал как-то отец.
– Вот как? Неужели? – удивилась мама, ничего не смыслившая в колдовских чарах.
Когда я верхом на коне и в полном одиночестве подъехала к калитке, ведущей в их сад, Мег, похоже, ни капли этому не удивилась; ее, впрочем, вообще было трудно чем бы то ни было удивить. Она приветливо мне кивнула и в знак деревенского гостеприимства вынесла мне кружку молока. Молоко я, естественно, выпила, так и не слезая с седла, и как раз в этот момент из лесу, точно полночная тень, вышел Ральф, неся в одной руке пару убитых кроликов. По пятам за ним, как всегда, следовал черный пес.
– Мисс Беатрис, – сказал он в качестве приветствия и неторопливо поклонился.
– Здравствуйте, Ральф, – вежливо поздоровалась я. При ярком свете дня его полуночное могущество куда-то исчезло, и он больше не имел надо мной такой власти. Его мать, взяв у меня пустую кружку, тут же ушла, оставив нас наедине в пятне теплого солнечного света.
– Я знал, что вы приедете, – с уверенностью сказал он, и мне тут же показалось, что солнце в небесах разом померкло. Точно загипнотизированный змеей кролик, я смотрела в темные, почти черные глаза Ральфа и больше ничего вокруг не замечала и не видела. Передо мной были только эти пристально смотревшие на меня глаза, чуть ленивая улыбка у него на устах, да на шее у него быстро-быстро бился крошечный пульс под бронзовой от загара кожей. В одно мгновение, как и прошлой ночью, этот высокий и стройный юноша снова обрел надо мною полную власть. Он словно принес эту власть с собой из леса, и я была рада, что сижу значительно выше его – мое седло находилось примерно на высоте его плеча.
– О, неужели? – сказала я, бессознательно подражая холодным интонациям моей матери. А он вдруг резко повернулся и пошел к реке, пробираясь сквозь густые заросли кипрея. И я, совершенно не задумываясь, соскользнула с седла, накинула поводья моей лошадки на колышек в ветхой изгороди и последовала за ним. Ральф ни разу даже не оглянулся, ни разу не остановился и не подождал меня. Он шел так, словно был совершенно один. Сперва он спустился к самой воде, а потом пошел вверх по течению реки в ту сторону, где торчали развалины мельницы и виднелся темный мельничный пруд. Широкие арочные ворота того помещения, где раньше нагружали мукой повозки, были распахнуты. Ральф, по-прежнему не оглядываясь и не говоря ни слова, вошел туда, и я молча последовала за ним. На длинный помост для мешков с мукой вела шаткая лесенка. В теплом сумраке старой мельницы чувствовался затхлый, но вполне безопасный запах старой соломы; под ногами шуршал толстый мягкий слой пыльной мякины.
– Хочешь посмотреть гнездо ласточки? – вдруг довольно небрежным тоном предложил Ральф.
Я кивнула. Ласточки приносят удачу; и потом, мне всегда очень нравились их маленькие гнезда в форме чашечек из глины и травы на балках, перекрытиях или где-нибудь под застрехой. Ральф первым полез по лесенке наверх, я следом. На самом верху он наконец протянул мне руку и, когда я уже стояла с ним рядом, больше мою руку не отпустил, неотрывно глядя прямо на меня каким-то чересчур внимательным, оценивающим взглядом.
– Вон они, – сказал он. Гнездо было на нижней балке под крышей, и птицы-родители еще достраивали его. Мы видели, как одна из ласточек стрелой слетела на балку с полным клювом глины, смешанной с мякиной, прилепила этот комочек к стене будущего гнезда и снова метнулась вниз. Мы стояли не шелохнувшись и молча наблюдали за ласточками. Потом Ральф, выпустив наконец мою руку, обнял меня за талию и привлек к себе. Рука его скользнула по моему затянутому бархатом амазонки боку, пальцы коснулись моей округлой маленькой груди. По-прежнему не говоря ни слова, мы оба разом повернулись, он наклонился и поцеловал меня. Его поцелуй оказался столь же нежен и легок, как полет ласточки.
Он все продолжал целовать меня, едва касаясь моих губ, без малейшей настойчивости. Но вскоре я почувствовала, как напряглось его тело, как крепко теперь обнимают меня его руки. А у меня голова просто кружилась от наслаждения. Потом колени подо мной подогнулись, и я рухнула на пыльную солому, так и не разжав рук, которыми обнимала Ральфа.
Мы оба были еще лишь наполовину взрослыми, особенно я. Хотя я, конечно, все знала о том, как совокупляются домашние животные, но искусство поцелуев и любовных игр было мне совершенно неведомо. Ральф в этом отношении оказался куда более опытным; во-первых, он был парнем деревенским, и плату за свой труд получал как взрослый мужчина, и уже два года пил вместе со взрослыми мужчинами и наравне с ними. Шляпка свалилась у меня с головы, когда я, запрокинув голову, отвечала на его поцелуи; и я сама расстегнула ворот своего платья навстречу его жадным неловким пальцам, а потом расстегнула и рубашку у него на груди, чтобы прижаться к ней лбом и горящей щекой.
Где-то в глубине моей души некий голос твердил: «Лихорадка. Да ведь у тебя наверняка лихорадка!» Я чувствовала, что ноги мои настолько ослабели, что я не могу подняться, и я отчего-то дрожала всем телом, а где-то в самом моем нутре, глубоко под ребрами, возник некий болезненно-сладостный трепет. И вдоль позвоночника бежали и бежали мурашки. Я вздрагивала от каждого, даже малейшего, движения Ральфа. Когда он кончиком указательного пальца провел от моего уха до основания шеи, я задрожала всем телом. «Я, должно быть, больна, – твердило мое гаснущее сознание. – Да, наверное, я очень, очень больна».
И тут Ральф, слегка отстранившись от меня и опершись о локоть, спокойно сказал, глядя мне в лицо:
– Тебе пора. Уже довольно поздно.
– Ерунда, – возразила я. – Наверняка еще и двух часов нет.
Я вытащила из кармана свои серебряные часики, миниатюрную копию отцовских часов, открыла их и в ужасе воскликнула:
– Уже три! Я же опоздаю! – Я мгновенно вскочила на ноги, подняла шляпу и принялась отряхивать юбку. Ральф, не делая ни малейшей попытки помочь мне, полулежал, прислонившись к тюку старой соломы и равнодушно за мной наблюдая. Я застегнула платье, украдкой поглядывая на него из-под ресниц. А он вытянул из кучи соломинку и стал ее жевать. Его темные глаза не выражали ровным счетом никаких чувств. Он, похоже, был столь же доволен тем, что я от него ухожу, как и тем, что я сама к нему приехала. В своей ленивой неподвижности он был похож на тайного языческого божка, одного из старых, полузабытых, лесных богов этой земли.
Я была уже готова отправиться в обратный путь, и мне, надо сказать, следовало бы поспешить, однако тот странный трепет у меня в груди становился все сильнее, все болезненнее. Мне совсем не хотелось отсюда уезжать. Я снова присела рядом с Ральфом и, кокетливо положив голову ему на плечо, прошептала:
– Скажи, что ты меня любишь, прежде чем я уеду.
– Ох, нет, – спокойно возразил он, – ни за что. Никаких признаний в любви я делать не стану.
Я была потрясена. Я резко подняла голову и, чуть отстранившись, посмотрела на него.
– Значит, ты меня не любишь?
– Нет, – сказал Ральф по-прежнему совершенно спокойно. – Ведь и ты не любишь меня, не так ли?
Я промолчала, хотя с губ моих уже готов был сорваться гневный крик. Но я и правда не могла сказать, что люблю его. Да, мне очень понравилось целоваться, и я бы с удовольствием снова встретилась с ним здесь, в помещении полутемной старой мельницы. И тогда, возможно, я бы и платье с себя стащила, чтобы почувствовать на своем теле его руки и губы. Но он, в конце концов, был всего лишь сыном Мег. И жил вместе с нею в жалкой грязной хижине. И служил всего лишь помощником егеря. И был одним из наших подданных. И мы, его хозяева, милостиво позволяли ему и Мег жить в этом домишке почти что даром.
– Наверное, нет, – медленно ответила я. – Наверное, я еще не могу сказать, что люблю тебя.
– Знаешь, люди делятся на тех, кто любит, и тех, кого любят, – задумчиво проговорил Ральф. – Я видел немало взрослых мужчин, в том числе и благородных джентльменов, которые плакали как дети из-за любви к моей матери, а она ни на кого из них даже не глядела. Я бы никогда не стал так себя вести из-за женщины. Я никогда не стану чахнуть от любви к какой-то красотке. Я буду тем, кого любят, кому дарят и подарки, и любовь, и наслаждение… а он, получив все это, движется дальше.
И в голове у меня мелькнула мысль об отце, с уверенным видом лгущем своей жене и свободном от какой бы то ни было привязанности к ней; подумала я и о матери, которой остается лишь подавлять горестные вздохи и чахнуть от любви к сыну. Потом я вдруг вспомнила, как деревенские девушки, провожая глазами одного красивого парня, то краснели, то бледнели от волнения. Вспомнила я и о той девушке, которая утопилась в нашем речном пруду, когда любовник бросил ее и уехал на военную службу в графство Кент. Впервые я задумалась о том, сколько боли выпадает всякой любящей женщине после свадьбы – и бесконечные роды, и утрата привлекательности, и утрата любви, если, конечно, она у нее вообще была.
– Я тоже буду той, кого любят! – твердо заявила я.
Ральф громко расхохотался.
– Значит, ты тоже! – сказал он. – Еще бы, у тебя, по-моему, есть для этого все, что нужно! Ты такая же, как все вы, благородные: вас заботит только собственное удовольствие да необходимость удерживать землю в своих руках.
Да, собственное удовольствие и владение землей. Ральф сказал правду. Своими поцелуями он доставил мне удовольствие, чудесное удовольствие, от которого кружилась голова. Вкусная еда, хорошее вино, охота морозным утром – все это тоже доставляет удовольствие. Но владеть Широким Долом – это не удовольствие; для меня это единственная возможность чувствовать, что я живу. Я улыбнулась, подумав об этом. Ральф тоже ласково мне улыбнулся и горячо воскликнул:
– А ты станешь настоящей сердцеедкой, Беатрис, когда окончательно созреешь! А твои зеленые раскосые глаза и волосы цвета буковых орешков тебе помогут. И ты получишь столько удовольствий, сколько захочешь, и все земли в придачу.
Что-то в его голосе убедило меня, что он говорит правду. Да, я получу сколько угодно удовольствий, и эта земля тоже будет моей! То, что я так неудачно родилась девочкой, не сломает мою судьбу. Я могу получать не только любые удовольствия, но и эту землю я тоже непременно заполучу! И я буду владеть ею, хоть я и не мужчина. И наслаждения от любовных утех мне достанется больше, чем любому мужчине. Я же чувствовала, что Ральфу очень приятно целоваться со мной, но разве можно было сравнить его ощущения с моими? Ведь я чуть сознание не теряла от наслаждения! Я испытывала наслаждение каждой клеточкой своей шелковистой кожи. Да, мое тело – самое настоящее животное, замечательное животное: ловкое, гибкое, обворожительное. И я смогу получить максимальное наслаждение с любым мужчиной, который будет мне мил. И эта земля будет моей! Я всегда мечтала стать хозяйкой Широкого Дола; с этим были связаны все мои помыслы, каждый мой вздох, каждый сон. И я знала, что вполне заслужила это право, что никто так не любит Широкий Дол, никто так не заботится о нем, как я, и никто не знает его так хорошо, как я.
Я задумчиво посмотрела на Ральфа. Все-таки что-то еще послышалось мне в его голосе, да и смотрел он на меня не так равнодушно, как прежде; его глаза так и светились теплом и чувственностью.
– А вот ты мог бы полюбить меня! – заявила я. – Да ты уже и так почти в меня влюбился!
Он выбросил вперед руку тем жестом, к которому прибегают во время борьбы деревенские парни, когда хотят показать, что сдаются.
– Ну, в общем, да, – легко признался он, но таким тоном, словно особого значения это не имело. – Да и тебя я, возможно, смог бы заставить по-настоящему меня полюбить. Только для нас в этом мире попросту нет места. Ты живешь в богатой усадьбе, а я – в жалкой хижине, которая стоит на вашей земле и в вашем лесу. Мы, разумеется, можем встречаться тайно в этом темном и грязном сарае и даже получать немалое удовольствие, но замуж ты выйдешь за лорда, а я женюсь на какой-нибудь деревенской потаскушке. И если ты все же хочешь любви, тебе лучше найти кого-то другого. А я готов встречаться с тобой и просто для удовольствия.
– Ну что ж, значит, мы будем встречаться для удовольствия, – согласилась я, но сказала это с таким серьезным видом, словно клялась на Библии, и посмотрела на Ральфа, а он поцеловал меня так нежно и торжественно, словно принимал некий обет. Затем я все-таки собралась уходить, но снова помедлила, оглянулась и посмотрела на него. Он лежал, откинувшись на тюк соломы, и был похож в эту минуту на могучее и опасное божество урожая. У меня просто не хватило сил уйти от него. Я улыбнулась – почти застенчиво – и, шагнув назад, остановилась прямо перед ним. Он лениво протянул мне руку, и я во мгновение ока опять оказалась в его объятиях. Мы, улыбаясь, посмотрели друг другу в глаза, как равные, как если бы между нами не было никакой усадьбы и никакой жалкой хижины, и твердые губы Ральфа снова впились в мои уста. И шляпа, только что аккуратно надетая, снова свалилась у меня с головы.
В тот день я так и не пообедала.
Впрочем, есть мне совершенно не хотелось.