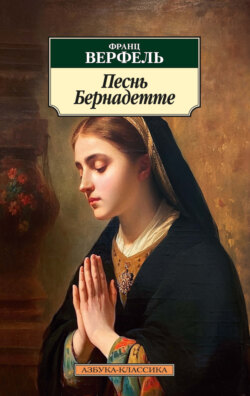Читать книгу Песнь Бернадетте - Франц Верфель - Страница 10
Часть первая
Вторичное пробуждение 11 февраля 1858 года
Глава седьмая
Дама
ОглавлениеБернадетта переводит взгляд на ближайший тополь, чтобы узнать, есть ли там, в вышине, ветер, который мог бы добраться до куста в гроте Массабьель. Но трепетная листва тополя замерла, пышная крона недвижна. Бернадетта вновь поворачивается лицом к гроту, который от нее не более чем в десяти шагах. Куст дикой розы на стене грота уже не колеблется. Наверное, ей просто привиделось.
Нет, не привиделось. Бернадетта трет глаза, закрывает их, открывает, и так до десяти раз, но ничего не помогает. Дневной свет вокруг по-прежнему свинцово-серый. Только в овальной нише внутри грота дрожит насыщенный густой блеск цвета старого золота, словно там сохраняются еще последние лучи золотого заката. И в этом волнующемся золотом сиянии кто-то стоит, будто только что вышел из глубин мироздания на свет дня после долгого, хотя и нетрудного, не требовавшего особых усилий пути. И этот кто-то не расплывчатый призрак, не прозрачный фантом, не изменчивое видение, но очень юная и благородная с виду дама, весьма изящная, явно из плоти и крови, скорее миниатюрная, чем высокая, ибо она спокойно стоит, не касаясь каменных стен и вполне помещаясь в узком овале ниши. Одета юная дама не вполне обычно, но при этом ее туалет не совсем чужд современной моде. Хотя на ней явно нет ни тесного корсета, ни парижского кринолина, свободный покрой ее белоснежного платья красиво подчеркивает тонкую нежную талию. Бернадетта недавно присутствовала в церкви на бракосочетании младшей дочери де Лафита. Так вот, наряд дамы, скорее всего, можно сравнить с нарядом знатной невесты. И на той и на другой поверх платья наброшена легкая фата из дорогой ткани, покрывающая голову и доходящая до лодыжек. Но волосы похожей на невесту дамы не подверглись никакой завивке и не уложены в высокую прическу с черепаховым гребнем, как принято в высшем свете, нет, даже несколько дерзких золотистых локонов самым очаровательным образом выбились из-под накидки. Широкий голубой пояс свободно завязан под самой грудью, и концы его свисают почти до колен. Но какая несравненная, пронзительно приятная голубизна! А что касается белоснежного платья, то, наверное, даже мадемуазель Пере, портниха, обшивавшая самых богатых дам Лурда, не смогла бы определить, из какой ткани оно изготовлено. Иногда эта ткань блестит наподобие атласа, иногда кажется матовой, словно неизвестный тончайший белый бархат, а иногда это какой-то невесомый батист, отвечающий на каждое колебание тела причудливой игрой складок.
Но самое необычное Бернадетта замечает лишь в последнюю очередь. На молодой даме нет обуви, ее ноги босы. Узкие изящные ступни белы, как слоновая кость или даже как алебастр. К их белизне не примешивается ни малейшего оттенка красного или розового. Это какие-то первозданные ножки, словно никогда не ходившие по земле. Они странным образом контрастируют с живой телесностью очаровательной девушки. Но, пожалуй, еще удивительнее золотые розы на обеих стопах, неведомо как прикрепленные у основания больших пальцев. Трудно сказать, какого рода эти розы: то ли это искусно выполненная бижутерия, то ли они просто нарисованы яркой золотой краской.
Сначала Бернадетта испытывает короткий, сотрясающий ее ужас, затем менее панический, но более продолжительный страх. Однако не тот, который ей знаком, не тот, который заставляет человека вскочить и спасаться бегством. Она ощущает лишь, как что-то мягко сдавливает ей лоб и грудь, но при этом она страстно желает, чтобы это никогда не кончилось. Затем страх превращается в нечто такое, что девочка Бернадетта не смогла бы определить. Скорее всего, это можно было бы назвать утешением или усладой. До той поры Бернадетта даже не подозревала, что нуждается в утешении. Она ведь не сознает, как ужасна ее жизнь в полутемной норе кашо, которую она делит с пятью другими членами своего семейства, не сознает, что ей приходится постоянно голодать, не думает о том, что ночи напролет ей приходится бороться с мучительными приступами астмы, во время которых ей так трудно, почти невозможно дышать. Так было, сколько она себя помнит, и, вероятно, будет всегда. Тут уж ничего не поделаешь. Но теперь ее все больше и больше окутывает это утешение, которое она не может назвать, заливает горячая волна жалости и сочувствия. Жалеет ли она саму себя? Да. Но внутреннее существо девочки сейчас так распахнуто и так объемлет весь мир, что сладость сострадания буквально пронизывает все ее содрогающееся тельце до кончиков маленьких юных грудок.
В то время как волны любовного утешения наполняют ее сердце покоем, свободный и твердый взгляд Бернадетты неотрывно прикован к лицу молодой дамы. Дама неподвижно стоит в нише, но чем больше впивается в нее взгляд Бернадетты, тем она оказывается ближе. Девочка могла бы сейчас сосчитать все взмахи ее ресниц, которыми она время от времени прикрывает бездонную лазурь своих глаз. Цвет лица, при всей его безупречности, столь живой и естественный, что даже легкий румянец на щеках воспринимается как свидетельство свежести морозного зимнего дня. Губы дамы не чопорно сжаты, а слегка приоткрыты, как бы невзначай, и между ними мерцают чудесные белые зубки. Но Бернадетта не замечает частностей, она глядит и не может наглядеться на весь этот прекрасный образ.
Ей даже не приходит в голову мысль, что перед ней небесное создание. Ведь Бернадетта не стоит на коленях в сумраке церкви. Она сидит на камне поблизости от того места, где ручей Сави сливается с Гавом, вокруг ясный студеный мир февральского дня, а в опущенной руке она держит белый шерстяной чулок. Бернадетте ясна лишь несказанная красота представшего перед ней женского существа, которая ее опьяняет и которую она впивает в себя ненасытным взглядом. Красота дамы и есть та главная сила, которая покорила девочку Бернадетту Субиру.
В своем восторженном оцепенении Бернадетта внезапно осознает, что ее поведение неприлично. Она сидит, а дама стоит. Кроме того, ей стыдно, что одна нога у нее голая, а другая в чулке. Как ей поступить? Она виновато встает. Дама удовлетворенно улыбается. Эта улыбка еще усиливает ее очарование. Бернадетта неловко кланяется, как это принято у лурдских школьниц, когда они встречают на улице одну из сестер-наставниц, или аббата Помьяна, или даже самого декана Перамаля. Дама торопится ответить на ее приветствие, не снисходительно, как вышеназванные авторитеты, но по-дружески и совершенно непринужденно. Она несколько раз кивает Бернадетте, и улыбка ее становится еще теплее. Обмен приветствиями создает совершенно новое положение. Между Бернадеттой и дамой, между Осчастливленной и Дарующей Счастье, устанавливается связь. Возникает мощный поток, соединяющий Бернадетту и даму, он стремится в обе стороны и несет в себе волны радостной симпатии, взаимной близости и даже какого-то нежного сообщничества. «Иисус Мария, – думает Бернадетта, – она стоит, и я стою». Чтобы обозначить почтительное различие между собой и дамой, Бернадетта становится на колени прямо на береговую гальку, лицом к нише.
Словно желая показать, что она поняла намерение девочки, дама делает своими алебастровыми ножками с золотыми розами маленький шажок из ниши к краю скалы. Идти дальше она не может или не хочет. Затем она немного раскидывает руки, как бы желая что-то обнять или приподнять. Руки у нее такие же тонкие и белые, как и ноги. На ее ладонях тоже не заметно ни малейшего оттенка красного или розового.
Некоторое время ничего не происходит. Видимо, дама вынуждена, – а вернее сказать, желает – предоставить всю инициативу Бернадетте. А девочке довольно долго ничего не приходит на ум, она лишь стоит на коленях и смотрит, смотрит и стоит на коленях. Из-за этого обеих охватывает легкое смущение, и это немного огорчает девочку, которая хоть и чувствует, сколь она недостойна дамы, все-таки жаждет ей услужить и всеми силами облегчить встречу.
Одновременно в очарованном мозгу Бернадетты просыпается настороженность, первые сомнения, первое осознание странности происходящего. Откуда пришла дама? Из толщи земли? Но разве что-нибудь благое может появиться из-под земли? Благое, Небесное обычно нисходит с высоты. Оно может опуститься на облаке или сойти вниз по солнечному лучу, как на картинках в церкви. Но кто бы ни была эта юная дама, откуда бы она ни пришла своими босыми ногами, естественным или неестественным путем, одно остается непонятным: почему она выбрала для своего появления именно Массабьель, грязную, замусоренную дыру, постоянно заливаемую полыми водами, которые сносят туда камни, кости и всякий хлам, плывущий по реке. Массабьель, где находят приют свиньи и змеи, короче, место, которого все стараются избегать.
Недоверие Бернадетты, однако, не слишком серьезно. Все ее существо ликует, очарованное необыкновенной красотой дамы. Ведь всякая красота таит в себе нечто сверхъестественное. От каждого лица, которое мы называет красивым, исходит некое сияние, хоть и обусловленное физическими формами, но по сути своей духовное. Красота дамы кажется еще менее связанной с физической природой, чем любая другая красота. Она и есть само духовное сияние, имя которому «красота». Потрясенная этим сиянием, а отчасти и затем, чтобы удостовериться в происхождении дамы, Бернадетта решает перекреститься.
Крестное знамение – испытанное средство против множества страхов и душевных смут, с малых лет преследующих Бернадетту. Ее мучают не только ночные кошмары. Даже средь бела дня ее глаза обладают даром видеть в обыкновенных вещах нечто особенное, некие образы, заключенные в них, как в раму. На стенах кашо множество сырых подтеков и пятен. Если пристально смотреть на них из угла комнаты или утром из кровати, когда никак не удается заснуть, то эти пятна принимают самые различные очертания и формы. Все они в основном порождения царства демонов, череда нелепейших уродств и немыслимых сочетаний. Не последнюю роль среди них играет Орфид, огромный бородатый козел матушки Лагес из Бартреса. Когда-то этот злобный зверь, свирепо выставив рога, гнался по лугу за маленькой испуганной пастушкой. (О, почему именно она, которая так любит все красивое, приветливое, доброе, столь часто оказывается во власти этих злобных фантомов?)
Бернадетта, не отрывая глаз от бескровных ступней дамы, хочет поднять руку и осенить себя крестным знамением. Но ей это не удается. Рука не поднимается, словно чужая. Бернадетта даже не в силах пошевелить пальцами. Такое состояние, когда руки и ноги будто отнялись, тоже ей знакомо по страшным снам. Ей часто снится, что ее преследуют адские силы, гонятся за ней, а мышцы и голос ей отказывают, и она не может позвать на помощь Спасителя. Но на сей раз ее бессилие имеет, как видно, особую причину. Возможно, дама угадала ее сомнения и хочет ее за это наказать. Но возможно, что сама Бернадетта, желая перекреститься, нарушила каким-то образом правила хорошего тона и совершила непростительный faux pas[8]. Ибо что касается крестного знамения, то несомненно первенство тут должно принадлежать даме.
И в самом деле, дама в нише медленно, очень медленно, как бы обучая, поднимает правую руку с тонкими пальцами и так широко, так радостно осеняет себя крестным знамением, что Бернадетта приходит в восторг, ибо ничего подобного еще в жизни не видала. Сияющий крест словно не исчезает, а продолжает парить в воздухе. При этом лицо дамы делается необыкновенно серьезным, и от этой серьезности исходит новая волна очарования, которому невозможно противостоять. До сих пор Бернадетта, как и большинство людей, крестилась довольно небрежно и неточно, едва касаясь в спешке лба и груди. Теперь же она чувствует, как ее рукой завладевает какая-то мягкая сила. Как водят руку ребенка, уча его письму, так мягкая сила приподнимает застывшую руку девочки и касается ею середины лба. В результате у Бернадетты получается такой же широкий и невыразимо прекрасный крест, как только что у дамы. И дама вновь кивает и улыбается, будто им удалось достичь чего-то важного и ценного.
После этого возникает новая пауза, заполненная восторженным созерцанием и любовью. Бернадетте хотелось бы что-то сказать, как-то выразить свои чувства, если не словами, то хотя бы запинающимися, смущенными, нежными звуками. Но разве можно осмелиться заговорить прежде, чем заговорит дама? Девочка сует руку в свою матерчатую сумку и вынимает оттуда четки. Это и есть самое лучшее, что она может сделать…
Все без исключения женщины Лурда постоянно носят с собой четки, важный и необходимый инструмент их благочестия. Руки бедных, тяжко работающих женщин просто не могут пребывать в покое. Молитва с пустыми руками для них как бы и не молитва. Молитва с усердным перебиранием четок – совсем другое дело, своего рода небесное рукоделие: невидимое шитье, вязание или вышивание; из пятидесяти «Ave Maria» возникает прилежно нанизанная жемчужная нить. Кому в течение года или дня удается прочесть положенное число определенных молитв, следующих в строгом порядке, или, как говорят, «розариев», тот соткет себе добротное покрывало, которым великое милосердие когда-нибудь частично прикроет его вину. Пусть губы механически бормочут слова, которыми ангел приветствует Деву, душа в это время все равно блаженствует на лугу святости. И пусть мысли при этом частенько отвлекаются от произносимых слов и вздох, вырывающийся из груди, относится исключительно к неразумной цене на яйца, пусть даже голова поникнет на минуту-другую во время произнесения очередного «Ave» – не беда, ибо в этот миг человек защищен надежнее, чем когда-либо. Матушка Субиру относится к четкам и к чтению молитв точно так же, как все женщины Лурда. А Бернадетта, еще такая юная Бернадетта, которую никто бы не назвал святошей, которую учительница Мария Тереза Возу считает дремучей язычницей и которая в самом деле имеет лишь смутное понятие о таинствах веры, Бернадетта с гордостью носит с собой четки как знак того, что уже принята в клан взрослых женщин.
Теперь она с готовностью предъявляет даме свои небогатые четки, суровую нить с нанизанными на нее простыми черными шариками. Дама как будто давно этого ожидала. Она вновь улыбается и кивает и, кажется, очень довольна похвальной сообразительностью девочки. В ее чуть приподнятой правой руке тоже появляются четки, но не грошовое рыночное изделие, которым пользуется дочка поденщика, а свисающая чуть ли не до земли нить крупных переливающихся жемчужин, какую не увидишь ни у одной из королев. На конце нити в волнах струящегося света блестит золотое распятие.
Бернадетта рада услышать наконец свой голос, хотя он кажется ей сейчас совсем незнакомым. «Богородице, Дево, радуйся…» – начинает она первый десяток молитв. При этом она зорко следит за дамой: молится ли та вместе с ней. Но губы дамы остаются неподвижными. Видимо, не ее дело произносить слова Ангельского Приветствия. Но она с ласковым вниманием контролирует бормотание девочки. Каждый раз, когда молитва прочитана, дама пропускает между пальцами очередную жемчужину и дает ей соскользнуть вниз. При этом она непременно ждет, чтобы сначала девочка передвинула свой черный шарик. Когда же после первых десяти «Богородиц» звучит наконец восклицание: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!» – из груди дамы как будто вырывается вздох и ее губы беззвучно произносят эти слова вместе с Бернадеттой. Никогда еще Бернадетта не читала «розарий» так медленно. Ведь это верное средство подольше удержать даму. А важнее этого сейчас ничего нет. Бернадетта так боится, что та, которую она уже возлюбила превыше всего, от лица которой она не в силах отвести глаз, устанет, что ей надоест из-за девочки Субиру торчать в неуютной и грязной каменной дыре на самом краю обрыва, откуда так легко свалиться. Конечно, истинная мука стоять таким образом, когда в тебя непрерывно впиваются глазами, да еще в такую погоду. «О Господи, скоро она уйдет и оставит меня одну…» Но после тридцати прочитанных молитв эти мысли куда-то уходят и сомнения рассеиваются. Глаза Бернадетты не устают все пристальнее глядеть на даму. Остальные чувства замирают. Она не ощущает острых камней под коленями. Не ощущает ледяной стужи вокруг себя. Она погружается в теплое блаженное забытье.
«Как мне сейчас хорошо, о, как мне хорошо…»
8
Ложный шаг (фр.).