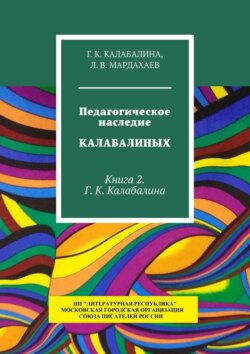Читать книгу Педагогическое наследие Калабалиных. Книга 2. Г. К. Калабалина - Г. К. Калабалина - Страница 5
Г. К. Калабалина о себе и о своей семье
Завидная судьба педагога
Оглавление(Интервью Г. К. Калабалиной газете «Горьковский рабочий»)2
А. В. Решая проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса, каждый учитель постоянно обращается к творческому наследию классиков педагогики. Живым родником творческой мысли являются для каждого из нас работы выдающегося советского педагога А. С. Макаренко. Его «Педагогическая поэма» и «Книга для родителей» не залеживаются на прилавках книжных магазинов, ибо сегодня, как никогда, велика тяга советского народа к педагогическим знаниям, к повышению культуры семейного воспитания. Понятен и тот интерес, который проявляем мы к тем живым свидетелям практической деятельности А. С. Макаренко, которые продолжают дело своего учителя.
Семен Афанасьевич и Галина Константиновна Калабалины – известные люди в нашей стране. Неудивительно, что недавний приезд в наш город воспитанницы А. С. Макаренко Галины Константиновны Калабалиной многих заставил обратиться к бессмертным страницам «Педагогической поэмы». И всем вспомнился герой книги Семен Карабанов, который, если помните, женился на «черноглазой студентке» Гале.
Семен Афанасьевич Калабалин и был той яркой фигурой, которую так живо представил А. С. Макаренко в своем произведении, дав своему герою фамилию Карабанов.
Г. К. Я жила тогда в Харькове с мамой и младшей сестрой. Моего папу убили в германскую войну, а мама была учительницей немецкого языка. Я тоже мечтала стать педагогом. После школы поступила в педучилище, там и вступила в общество «Друг детей». Тогда был бич – беспризорность.
В стране, только что пережившей две революции и гражданскую войну, царила разруха. Сотни тысяч детей потеряли не только семьи, но само детство. Мы, молодежь, вдохновенно поднимались на помощь нашей стране. Занимались конкретными делами: собирали ребят на вокзалах, дежурили в ночлежках, где были беспризорники, определяли их в детские дома, там тоже проводили много времени, общаясь с ребятами. И в этом общении под коростой грубости и отчуждения открывались порой чистые и добрые детские души. Хотелось много сделать для этих детей, чтобы жизнь у них устроилась хорошо. Тогда у меня и появилось желание стать воспитателем.
Но не все складывалось, как хотелось. В 1925 году скоропостижно умерла мама. Из взрослых я осталась одна, и об учебе не могло быть и речи, надо было зарабатывать себе на хлеб. Решила пойти работать на табачную фабрику в Харькове. И вот как-то приехал лектор, и весь наш актив по борьбе с детской беспризорностью собрали на лекцию. Этим лектором был Антон Семенович Макаренко.
Мы ждали «ученого» доклада, а получили задушевный разговор. С большой теплотой говорил Антон Семенович о своих воспитанниках, о тех причинах, которые привели ребят на улицу, о том, какие замечательные люди выходят из колонии имени Горького, о том, что в каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее, которое надо найти, увидеть, за которое надо зацепиться и которое надо развивать.
Я слушала Антона Семеновича, затаив дыхание. Как он верит в Человека! Как он любит людей! У такого педагога не может быть плохих воспитанников. Как счастливы те, кто попал в эти заботливые руки. И как мне захотелось в эти минуты посвятить свою жизнь этим, вырванным из нормальной жизни ребятам.
После беседы я подошла к Антону Семеновичу и рассказала о своей жизни, о трудностях, с которыми я столкнулась после смерти матери. Антон Семенович выслушал меня внимательно, а потом сказал:
– Вот что, здесь, в Харькове, учится группа наших рабфаковцев, это наш сводный отряд, я зачисляю тебя в него. И с этого дня ты не одна, у тебя большая семья, которая будет заботиться о тебе, и перед которой ты будешь в ответе за свои поступки. То, что ты хочешь стать воспитателем, это очень хорошо, и ты им обязательно будешь.
С этого дня моя жизнь получила новый смысл, я была не одна, меня окружали хорошие, заботливые люди. Антон Семенович регулярно навещал сводный отряд, который жил в студенческом городке.
В один из таких приездов меня приняли в колонисты и вручили мне костюм и синюю блузку с белым воротничком. Для меня этот костюм был дороже всего на свете, так как это означало, что я стала полноправным членом колонии имени Горького.
А. В. А как вы познакомились с Семеном?
Г. К. Когда я приехала в колонию имени Горького, Антон Семенович сказал, что мне надо осмотреть колонию. А там были такие подземные ходы, – интересно. Вот позвал он Семена, вошел парень в малиновых трусах и синей рубашке – у них все в трусах ходили, и говорит:
– Вот, Семен, я даю тебе ордер на два часа, познакомишь Галю с колонией.
Я знала, что ордера дают на пальто, а что на людей – не знала. Меня это немножко даже испугало. Оказалось, у них такой порядок был: получил ордер – значит, несешь полную ответственность за того человека, которого тебе поручили. С первой минуты он произвел на меня такое впечатление – удивительный во всем: глаза, улыбка… Ходили, подошли к подземным ходам. Он говорит:
– А ты не боишься со мной пойти?
Я ему сказала:
– Знаешь, чего бояться? Геройство – обидеть сильного, а слабого – какое же тут геройство?
– Ну, тогда пойдем.
Так состоялось наше знакомство.
С. А. Калабалин после колонии получил высшее сельскохозяйственное образование. Однако годы, проведенные в колонии, наложили свой отпечаток на идеалы пытливого юноши. Они, эти идеалы, а также влияние личности самого Макаренко сказались на окончательном выборе жизненного пути, и бывший колонист Семен Калабалин становится воспитателем, а затем и директором детского дома трудновоспитуемых детей и спецколоний для несовершеннолетних правонарушителей.
Продолжая традиции своего учителя, С. А. Калабалин уже в предвоенные годы получает широкую известность. О нем пишут центральные журналы и газеты. Вместе с мужем работает в детском доме воспитателем и Галина Константиновна. Когда в начале войны С. А. Калабалина призывают в ряды Советской Армии, директором детского дома становится Галина Константинова.
А. В. О том времени Галина Константиновна рассказывает так, будто только вчера все и было.
Г. К. Да разве такое забудешь, – чуть приглушенным голосом говорит она. – Дети и война. Страшно. Тяжело об этом вспоминать.
А. В. И в войну детский дом не сдал своих макаренковских позиций, хотя трудностей в его жизни было тогда немало. Приходилось перестраивать всю работу на новый лад, с учетом военного времени.
Кончилась война, и вернулся с фронта Семен Афанасьевич. Детский дом зажил прежней мирной жизнью. Еще раз пришлось Галине Константиновне принимать детский дом – после смерти мужа. Объектом особого внимания Г. К. Калабалиной являются ребята, у которых что-то не заладилось в жизни, и которых мы привыкли называть трудными.
– Чем обусловлен этот интерес?
Г. К. Я ведь сама из таких ребят, да и большинство моих лучших друзей – сейчас уже людей почтенного возраста – в прошлом были неудачниками. Но воля, способности, воспитание сделали их хорошими людьми, многие из них до ухода на пенсию занимали видные посты. И мне, и им помогли стать такими наши педагоги, и, в первую очередь, Антон Семенович, могли ли мы остаться неблагодарными воспитанниками. Не случайно многие из нас пришли работать в школы и детские дома.
Надо всегда помнить, что трудными дети не рождаются, такими их делает ближайшее окружение.
Работать с трудными крайне тяжело. И, тем не менее, это самый живой и самый интересный народ. Воспитателю настоящему работа с ними помогает раскрыть свои лучшие профессиональные качества, выявить уровень собственных педагогических возможностей.
Глубоко убеждена: без доброты человек – ничто. Человеческое приобретается с добротой, если неуклонно повышается самосознание личности. Нет человека, который не пытался бы стать лучше, чем он на самом деле есть. Видеть лучшее в человеке нужно уметь. Этому надо учиться у А. С. Макаренко, что мы и делаем.
А. В. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к педагогическому наследию В. А. Сухомлинского?
Г. К. В.А. Сухомлинский, по моему твердому убеждению, – выдающийся советский педагог. Обидно очень, что подобные вопросы иной раз бывают навеяны стремлением некоторых противопоставить его Антону Семеновичу Макаренко. А. С. Макаренко, мол, – да, а что до В. А. Сухомлинского, то он, дескать, ничего нового в педагогике не сказал и не сделал. Ошибочное, вредное суждение!
Этот удивительный человек действительно отдал свое сердце детям, нелегкому педагогическому делу.
Я уверена, что будь жив Антон Семенович, он дал бы деятельности В. А. Сухомлинского самую высокую оценку. Оба выдающихся педагога сказали свое слово в теории и проявили себя на практике в конкретных жизненных условиях. Поэтому не сопоставлять и не сравнивать надо этих людей, а глубже изучать обоих и шире использовать их опыт и теоретические выводы в повседневной работе.
А. В. Дни пребывания Г. К. Калабалиной в Горьком были насыщены напряженной работой. Иногда казалось, что нагрузка, которую взяла на себя эта далеко уже немолодая женщина, была ей не под силу. Беседы со школьниками и учащимися ПТУ, выступления с лекциями перед учителями и студентами, многочисленные встречи с людьми, интересующимися творчеством А. С. Макаренко. И всегда казалось, что девиз колонии имени М. Горького «не пищать!» продолжал оставаться в силе для Г. К. Калабалиной и в эти дни. Всегда собранна, подтянута, в хорошем настроении.
Ее выступления были настоящим откровением большого педагога, отличника народного просвещения, страстного пропагандиста идей А. С. Макаренко, матери детей, ставших по примеру родителей педагогами.
2
Интервью проводил А. Волков, директор школы №178, г. Горький, 1980.