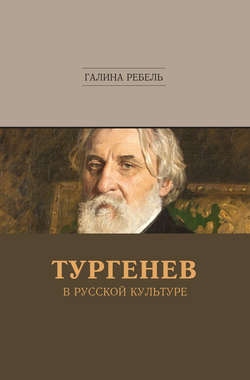Читать книгу Тургенев в русской культуре - Галина Ребель - Страница 4
Часть первая
Творческая стратегия
Глава третья
«…У счастья нет завтрашнего дня»:
Пушкинские мотивы и образы в повести И. С. Тургенева «Ася»
Оглавление«Ася» написана во второй половине 1857 года, в Германии, в Зинциге, на берегу Рейна, то есть в том самом месте, где разворачивается действие «рассказа» [ТС, 7, с. 421], – так определял жанр «Аси» сам автор. Мы же будем придерживаться того жанрового определения, которое закрепилось за произведением, хотя и небольшим по объему, но удивительно емким, богатым по содержанию и в этом смысле тяготеющим скорее к романам Тургенева, чем к его рассказам.
Повесть «Ася» создается в сложный для Тургенева период выхода из душевного и творческого кризиса, и в этой ситуации ему чрезвычайно важны оценки первых, «доверенных», читателей. Авторские ожидания были вознаграждены вполне. «Повесть твоя – прелесть, – пишет Тургеневу И. И. Панаев. – Спасибо за нее: это, по-моему, одна из самых удачных повестей твоих. Я читал ее вместе с Григоров<ичем>, и он просил написать тебе, что внутри у тебя цветет фиалка» [там же, с. 434]. По свидетельству Н. А. Некрасова, «даже Чернышевский в искреннем восторге от этой повести», сам же Некрасов увидел в ней «чистое золото поэзии» [там же, с. 434]. О лиричности, поэтичности, грациозности «Аси» писали, уже по выходе произведения, многие, и уже в самых ранних отзывах отмечалось сходство сюжетов «Аси» и «Евгения Онегина».
Идейно-эстетическую основу близости Тургенева Пушкину очень точно определил М. Е. Салтыков-Щедрин: «Тургенев был человек высоко развитый, убежденный и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоцененную заслугу перед русским обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем Пушкина и других соперников в русской литературе не знает. Так что ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе, что он пробуждал “добрые чувства”, то то же самое и с такой же справедливостью мог сказать о себе и Тургенев. Это были не какие-нибудь условные “добрые чувства”, согласные с тем или другим переходящим веянием, но те простые, всем доступные общечеловеческие “добрые чувства”, в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты»40.
Даже Д. С. Мережковский, который обвинял послепушкинскую русскую литературу в том, что она с каждым шагом – с каждым новым писателем – все более и более удалялась от Пушкина, изменяла его нравственным и эстетическим идеалам, признавал Тургенева «в некоторой мере законным наследником пушкинской гармонии и по совершенной ясности архитектуры, и по нежной прелести языка». «Но, – тут же оговаривался он, – это сходство поверхностно и обманчиво. <…> Чувство усталости и пресыщения всеми культурными формами, буддийская нирвана Шопенгауэра, художественный пессимизм Флобера гораздо ближе сердцу Тургенева, чем героическая мудрость Пушкина. В самом языке Тургенева, слишком мягком, женоподобном и гибком, уже нет пушкинского мужества, его силы и простоты. В этой чарующей мелодии Тургенева то и дело слышится пронзительная, жалобная нота, подобная звуку надтреснутого колокола, признак углубляющегося душевного разлада…»41
Повесть «Ася» как раз тем, в частности, и интересна, что в ней, с одной стороны, отсылки к Пушкину лежат на поверхности текста, а с другой стороны, в том числе и благодаря этой обнаженности, с особой наглядностью обнаруживается то, как пушкинские мотивы и образы, вплетаясь в тургеневскую повествовательную ткань, обретают новую мелодическую окраску, обрастают новыми значениями, становятся строительным материалом принципиально иного, нежели пушкинский, художественного мира. Примечательно, что даже в ответном по поводу «Аси» письме П. В. Анненкову Тургенев, объясняя свое душевное состояние в период работы над повестью, прибегает к цитате из Пушкина: «Отзыв ваш меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь – только что спасшись на берег – пока сушил “ризу влажную мою”» [ТП, 3, с. 191]…
В самом тексте повести первая раскавыченная (то есть поданная как присвоенная героем-рассказчиком, ставшая для него естественным способом самовыражения, его собственным языком) цитата из Пушкина появляется в первой же фразе, где излагаемые события обозначены как «дела давно минувших дней», и далее таких цитат, реминисценций, аллюзий будет немало.
Здесь, однако, следует оговориться, что творческая преемственность одного писателя относительно другого выражается не в самом факте цитирования или даже использования чужих образов и мотивов, а в созидательной активности этих элементов в рамках нового художественного целого. В конечном счете, как писал А. С. Бушмин, «подлинная, высшая преемственность, традиция, творчески освоенная, всегда в глубине, в растворенном или, пользуясь философским термином, в снятом состоянии»42. Поэтому и доказывать ее наличие следует не выдергиванием отдельных, содержащих очевидные отсылки к чужим произведениям фрагментов (это может быть лишь одним из способов «объективации» художественного образа), а путем анализа художественного мира произведения.
Тургеневская апелляция к Пушкину, несомненно, носила не вспомогательно-технический и не декоративно-прикладной, а концептуально значимый, принципиальный характер, о чем и свидетельствует произведение, о котором идет речь.
Повествование в «Асе» ведется от первого лица, но это Я двулико: оно вмещает в себя рассказчика, некоего Н. Н., который вспоминает годы своей далекой молодости («дела давно минувших дней»), и героя – здорового, веселого, богатого и беспечного молодого человека, каким Н. Н. был двадцать лет назад. (Между прочим, таким же образом строится рассказ и в «Капитанской дочке», но у Тургенева расхождение между субъектом речи и субъектом действия резче: очевиднее и непроходимее не только временная, но и эмоционально-философская дистанция между героем и рассказчиком.)
Тургеневский рассказчик не просто излагает историю, но и оценивает, судит ее участников, прежде всего самого себя тогдашнего, сквозь призму последующего жизненного и духовного опыта. И уже в начале повести возникает щемящая нота, которая настраивает читателя на грустную волну, на ожидание-предчувствие неизбежно печального финала. Интродукция на тему молодой беспечности и веселости венчается эпитафией: «…я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься».
Однако эта изначальная содержательно-эмоциональная заданность, однонаправленность вектора повествования, идущая от рассказчика, ни в коей мере не отменяет и не умаляет интереса к истории героя, к его сиюминутному, уникальному опыту, в котором философская пессимистическая преамбула произведения сначала без остатка, до полного читательского забвения, растворяется, чтобы в итоге, напитавшись живой плотью этого опыта, предъявить свою неопровержимую правоту.
Собственно история начинается со слов «Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица». Свободное парение в пространстве бытия, первопричиной которого является «радостное и ненасытное любопытство» к людям, – с этим герой входит в рассказ, на этом он особенно настаивает («меня занимали исключительно одни люди»), и хотя тут же словно одергивает себя за видимое уклонение от намеченной логики повествования: «Но я опять сбиваюсь в сторону», – читателю не стоит пренебрегать этим «сторонним» замечанием, ибо очень скоро обнаруживается «судьбоносность» обозначенных здесь склонностей и приоритетов героя.
В экспозиции рассказа узнаем мы и о том, что герой влюблен – «поражен в сердце одной молодой вдовой», которая жестоко уязвила его, оказав предпочтение краснощекому баварскому лейтенанту. Очевидно, что не только теперь, по прошествии многих лет, но и тогда, в момент ее переживания, любовь эта была скорее игрой, ритуалом, данью возрасту: «Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.».
Немецкий городок, в котором герой предавался печали, «не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», был живописен и в то же время уютен, мирен и покоен, даже воздух «так и ластился к лицу», а луна заливала город «безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом». Все это создавало респектабельную поэтическую раму для переживаний молодого человека, подчеркивало красивость позы (он «просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем»), но выдавало ее нарочитость, картинность. Выглядывающая из ветвей ясеня маленькая статуя мадонны с пронзенным мечами красным сердцем в контексте этого эпизода воспринимается не столько как предвестница неминуемой трагедии (так осмыслена эта деталь В. А. Недзвецким43), сколько как ироническая рифма к легкомысленному присвоению, безо всякого на то основания, «роковых» формул – «поражен в сердце», «рана моего сердца». Впрочем, возможность трагического развития образа начальной иронической его интерпретацией отнюдь не снимается – так в пушкинской повести «Метель» исходная ирония оборачивается драматическим серьезом, а надуманная, присвоенная любовь оказывается искренним, подлинным чувством.
Сюжетное движение начинается с традиционного «вдруг», скрытого, как статуйка мадонны в ветвях ясеня, в недрах пространного описательного абзаца, но властно прерывающего созерцательно-статичное состояние героя предъявлением одной из тех сил, которые олицетворяют у Тургенева судьбу: «Вдруг донеслись до меня звуки музыки». На этот призыв герой откликается сначала заинтересованным вопросом, а затем физическим движением за пределы уютно обжитого, но событийно бесперспективного, эстетически исчерпанного пространства: «Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону».
Примечательная деталь: старик, разъясняющий причину музыки и только для этой цели извлеченный на мгновение из художественного небытия, чтобы тотчас кануть в него обратно, подан с «избыточными», явно превышающими меру необходимого для выполнения означенной функции подробностями: его «плисовый жилет, синие чулки и башмаки с пряжками», на первый взгляд, сугубо декоративные атрибуты, никак не связанные с логикой развития сюжета.
Однако, пользуясь терминологией Ф. М. Достоевского, противопоставлявшего «ненужной ненужности» неумелого автора «необходимую, многознаменательную ненужность» «сильного художника» [Д, 19, с. 183], признаем эти избыточные подробности в описании эпизодического старика «необходимой, многознаменательной ненужностью», ибо они дорисовывают картину стабильного, упорядоченного мира в канун перелома сюжетного движения и служат дополнительным свидетельством приверженности героя этой стабильности, созерцательности его мировосприятия даже в минуту, когда в нем зреет новый порыв и интерес направлен поверх предстоящего взору объекта.
Событием, значение которого Н. Н. оценил не сразу, но которое по-своему предопределило его дальнейшую жизнь, а в рамках повести явилось завязкой сюжета, стала случайная по видимости и неизбежная по существу встреча. Произошло это на традиционной студенческой сходке – коммерше, где и звучала поманившая героя за собой музыка. Чужое пиршество, с одной стороны, притягивает («Уж не пойти ли к ним?» – спрашивает себя герой, что, между прочим, свидетельствует о том, что он, как и создатель повести, учился в немецком университете, то есть получил лучшее по тому времени образование), а с другой стороны, наверное, усиливает ощущение собственной непричастности, чужести – не потому ли так «неохотно» знакомившийся с русскими за границей Н. Н. на сей раз живо откликается на родную речь. Ну а стимулом к сближению с Гагиными стало то, что разительно отличало новых знакомых от других русских путешественников, – непринужденность и достоинство, с которым они держались.
Портретные характеристики брата и сестры содержат не только объективные черты их облика, но и неприкрытую субъективную оценку – горячую симпатию, которой тотчас проникся к ним Н. Н.: у Гагина, по его мнению, было одно из тех «счастливых» лиц, глядеть на которые «всякому любо, точно они греют вас или гладят»; «девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной», признается герой.
В этих наблюдениях, оценках и характеристиках мы черпаем информацию не только об объекте, но и о субъекте изображения, то есть, как в зеркале, видим самого героя: ведь приветливость, искренность, доброта и неординарность, которые так привлекли его в новых знакомых, как правило, притягивают лишь того, кто в состоянии разглядеть и по достоинству оценить эти качества в других, ибо обладает ими сам. Встречная приязнь Гагиных, их заинтересованность в продолжении знакомства, исповедальная искренность Гагина подтверждают это предположение.
Как тут не согласиться с Н. Г. Чернышевским: «Все лица повести – люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные: проникнутые благороднейшим образом мыслей»; главный герой – «человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима; мысль которого приняла в себя всё, за что наш век называется веком благородных стремлений»44.
Как тут не забыть об изначальной трагической заданности сюжета и не вознадеяться на счастливое соединение Н. Н. и Аси с благословения и под покровительством Гагина? Но…
Начиная с «Евгения Онегина», над судьбами героев русской литературы довлеет это роковое, неизбежное и непреодолимое «но».
По этой же «матрице» сделана тургеневская «Ася», сюжет которой строится как неудержимое и беспрепятственное (!) движение к счастью, оборванное неотвратимым «но».
Уже описание первого вечера, в самый день знакомства проведенного Н. Н. у Гагиных, при внешней обыденности, бессобытийности происходящего (поднялись на гору, к жилищу Гагиных, полюбовались на закат, поужинали, поговорили, проводили гостя до переправы), отмечено кардинальным изменением художественного пространства, интенсивным эмоциональным приращением и, как результат, – нарастанием сюжетного напряжения.
Гагины жили за городом, «в одиноком домишке, высоко», и дорога к ним – это одновременно буквальный и символический путь «в гору по крутой тропинке». Вид, который на сей раз открывается взору героя, кардинально отличается от данного в начале повести, в пору безмятежного и малоподвижного уединения Н. Н. Рамки картины раздвигаются, теряясь в дали и в вышине; теперь в центре ее господствует река: «Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами, в одном месте он горел багряным золотом заката»; «приютившийся к берегу городок», и без того невеликий, словно становится меньше, беззащитно открывается окружающему простору, рукотворные сооружения – дома и улицы – уступают главенство естественному, природному рельефу: во все стороны от городка «широко разбегались холмы и поля»; а главное – открывается не только горизонтальная беспредельность мира, но и его вертикальная – небесная, воздушная – устремленность: «Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте».
Уютно обжитое героем замкнутое пространство ухоженного немецкого поселения расширяется и преображается, обретает необъятный, манящий, влекущий в свои просторы объем, и далее в тексте повести это ощущение оформляется в один из главных ее мотивов – мотив полета, преодоления сдерживающих оков, обретения крыльев. Этого жаждет Ася: «Если бы мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и утонули в этой синеве…» Об этом знает и такую возможность предвидит Н. Н.: «А крылья могут у нас вырасти»; «Есть чувства, которые поднимают нас от земли».
Но пока Н. Н. просто наслаждается новыми впечатлениями, в которые дополнительную романтическую окраску, сладость и нежность привносит музыка – доносящийся издали и благодаря этому освобожденный от какой бы то ни было конкретики, превращенный в собственный романтический субстрат старинный ланнеровский вальс. «…Все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы», признается герой; в душе его затеплились «беспредметные и бесконечные ожидания», и под впечатлением пережитого вмиг нахлынуло – как озарение, как дар судьбы – нежданное, необъяснимое, беспричинное и несомненное чувство счастья. Попытка рефлексии по этому поводу – «Но отчего я был счастлив?» – категорически пресекается: «Я ничего не желал; я ни о чем не думал…». Важен чистый остаток: «Я был счастлив».
Так, в перевернутом своем состоянии, минуя необходимые этапы возможности и близости, игнорируя какие бы то ни было обоснования и резоны, перескакивая через все предполагаемые сюжетные подступы, сразу с конца, с недостижимого для героев «Онегина», обреченных лишь на бессильный финальный вздох («А счастье было так возможно, так близко…») итога, – подчеркнуто полемически («Я был счастлив») начинает в тургеневской повести свою работу пушкинская формула счастья.
Впрочем, для того чтобы осознать связь тургеневской интерпретации темы счастья именно с пушкинской ее трактовкой (сама-то по себе тема стара, как мир, и, разумеется, никем не может быть монополизирована), следует для начала внимательно вглядеться в черты и характер героини, даровавшей Н. Н. одним только знакомством с нею то, чего за целую жизнь целенаправленных усилий можно так и не добиться, так и не пережить.
Асино сходство с пушкинской Татьяной лежит на поверхности текста, оно многократно и настоятельно предъявляется автором, и это несомненно свидетельствует о его принципиальной значимости в художественном мире произведения.
Уже в первой портретной характеристике прежде всего отмечено своеобразие, инакость героини: «Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица»; и далее это особенное будет усугубляться, сгущаться, наполняться конкретикой, отсылающей к деталям, из которых в романе Пушкина слагается образ Татьяны Лариной.
У всех на памяти «титульная» характеристика Татьяны: «дика, печальна, молчалива, как лань лесная, боязлива…».
В повести Тургенева, в рассказе Гагина о впервые им увиденной, тогда еще десятилетней Асе читаем:
«она была дика, проворна и молчалива, как зверек».
Конструктивное сходство этих формул-характеристик дополнительно усиливает сходство содержательное, подчеркивает его неслучайность, знаковость и одновременно акцентирует несовпадения, расхождения.
Тургеневская фраза звучит сниженно относительно пушкинской: «дика» – совпадает, подтверждается, но вместо «печальна» – «проворна» (впрочем, утрата этого атрибута скоро будет восполнена: томящаяся невысказанностью своей любви, Ася предстает перед наблюдательным, но недогадливым Н. Н. «печальной и озабоченной»); вместо поэтически возвышенного «как лань лесная, боязлива» – укороченное и упрощенное «как зверек».
Вне всяких сомнений, Тургенев ни в коей мере не стремится умалить свою героиню относительно идеала, каковым вошла в русское культурное сознание Татьяна Ларина, более того, вся логика повествования свидетельствует об обратном: Асей любуется, ею восхищается, ее поэтизирует в своих воспоминаниях не только рассказчик, но и – через его посредство – сам автор. Что же тогда означает корректировка на понижение классической формулы самобытности? Прежде всего, по-видимому, она призвана подчеркнуть, при внешнем сходстве, очевидность и принципиальность различия.
Ведь то, что в барышне Татьяне Лариной было проявлением своеобразия характера, в дочери барской горничной Асе являлось следствием драматизма судьбы.
Татьяна, «русская душою», горячо любившая свою няню-крестьянку и верившая преданьям простонародной старины, занимала при этом прочное и стабильное положение барышни-дворянки. Совмещение в ней народного и элитарного начал было явлением эстетического, этического порядка. А для Аси, незаконнорожденной дочери дворянина и горничной Татьяны, это изначальное, природное слияние в ней двух полюсов национального социума обернулось психологической драмой и серьезной социальной проблемой, что и вынудило Гагина хотя бы на время увезти ее из России.
Барышня-крестьянка не по собственной игривой прихоти, как безмятежно-благополучная героиня одной из «Повестей Белкина», не по эстетическому влечению и этическим пристрастиям, как Татьяна Ларина, а по самому своему происхождению, Ася очень рано сознает и болезненно переживает «свое ложное положение». «Она хотела быть не хуже других барышень» – то есть стремилась как к невозможному к тому, от чего отталкивалась, как от своего исходного, но неудовлетворительного status quo, пушкинская Татьяна.
Странность пушкинской героини носит индивидуальный характер и в немалой степени является результатом личного выбора, осознанной жизненной стратегии. Эта странность, разумеется, осложняла Татьяне жизнь, выделяя ее из окружения, а порой и противопоставляя ему, но в конце концов обеспечила ей особое, подчеркнуто значимое общественное положение, которым она, между прочим, гордится и дорожит.
Странность Аси – следствие незаконнорожденности и вытекающей из него двусмысленности социального положения, результат психологического слома, который она пережила, узнав тайну своего рождения: «Она хотела <…> заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею». В отличие от Татьяны, своеобразие которой черпало опору во французских романах и не подвергалось сомнению в его эстетической и социальной значимости, Ася, с одной стороны, «никак не хотела подойти под общий уровень», а с другой стороны, тяготилась своей странностью и даже оправдывалась перед Н. Н.: «Если я такая странная, я, право, не виновата…»
Как и Татьяне, Асе не присуще общепринятое, типическое, но Татьяна сознательно пренебрегала традиционными для барышни занятиями («Ее изнеженные пальцы не знали игл; склоняясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна»), а Асю сокрушает ее изначальная вынужденная отлученность от дворянского стандарта: «Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо».
Как и Татьяна, Ася с детства предавалась одиноким размышлениям. Но Татьянина задумчивость «теченье сельского досуга мечтами украшала ей»; Ася же мысленно устремлялась не в романтические дали, а к разрешению мучительных вопросов: «…Отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?..»
Как и Татьяна, которая в «семье своей родной казалась девочкой чужой», Ася ни в ком не находила понимания и сочувствия («молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила») и поэтому, опять-таки так же, как пушкинская героиня, она «бросилась на книги».
Здесь сходство подчеркивает различие, а различие, в свою очередь, усиливает сходство. Тургенев дает прозаическую, реалистическую проекцию начертанного Пушкиным поэтического, романтического образа, он переводит в социально-психологический план то, что у Пушкина подано с позиций этико-эстетических, и обнажает внутренний драматизм, противоречивость явления, которое у Пушкина предстает как цельное и даже величавое. Но при этом Тургенев не опровергает пушкинский идеал, – напротив, он испытывает этот идеал реальностью, «социализирует», «заземляет» и, в конечном счете, подтверждает его, так как Ася является одной из самых достойных и убедительных представительниц «гнезда» Татьяны – то есть той типологической линии русской литературы, начало, основание и сущность которой были заложены и предопределены образом пушкинской героини.
Правда, Ася, в отличие от юной Татьяны, не нашла еще своей естественной позы, своего стиля, той органичной для нее манеры поведения, которая соответствовала бы ее сущности. Чуткий, наблюдательный и не терпящий фальши герой «с неприязненным чувством» отмечает «что-то напряженное, не совсем естественное» в ее повадках. Любуясь «легкостью и ловкостью», с какими она карабкается по развалинам, он в то же время досадует на демонстративность предъявления этих качеств, на показательность романтической позы, в какой она сидит на высоком уступе, расчетливо красиво вырисовываясь на фоне ясного неба. В выражении ее лица он читает: «Вы находите мое поведение неприличным, <…> все равно: я знаю, вы мной любуетесь».
Она то хохочет и шалит, то разыгрывает роль «приличной и благовоспитанной» барышни – в общем, чудит, является герою «полузагадочным существом», а на самом деле просто ищет, пробует, пытается понять и выразить себя. Только узнав Асину историю, Н. Н. начинает понимать причину этих чудачеств: «тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие».
Лишь в одном из своих обличий выглядит она совершенно естественно и органично: «ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли» не было в ней, когда, словно угадав тоску героя по России, она предстала перед ним «совершенно русской девушкой <…>, чуть не горничной», которая в стареньком платьице с зачесанными за уши волосами «сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась».
Чем пристальнее Н. Н. вглядывается в Асю, чем менее дичится его она, тем явственнее проступают в ней другие Татьянины черты. И внешние: «бледная, молчаливая, с потупленными глазами», «печальная и озабоченная» – так сказывается на ней ее первая любовь. И, главное, внутренние: бескомпромиссная цельность («все существо ее стремилось к правде»); готовность «к трудному подвигу»; наконец, сознательная, открытая апелляция к Татьяниному (то есть книжному, идеальному) опыту – слегка перефразируя пушкинский текст, она цитирует слова Татьяны и одновременно говорит ими о себе: «где нынче крест и тень ветвей над бедной матерью моей!» (заметим кстати, что ее «гордая и неприступная» мать вполне заслуженно, а не только ради создания соответствующей ауры вокруг дочери носит освященное Пушкиным имя).
Все это дает Асе полное основание не только желать: «А я хотела бы быть Татьяной…», но и быть Татьяной, то есть быть героиней такого типа и склада. Осознанность ею самой этого желания – не только дополнительное свидетельство духовной близости к пушкинской героине, но и знак неизбежности Татьяниной – несчастливой – судьбы. Как и Татьяна, Ася первая решится на объяснение; как и Татьяна, вместо ответного признания, услышит нравоучительные упреки; как и Татьяне, ей не суждено обрести счастье взаимной любви.
Что же, однако, мешает счастливому соединению молодых людей в данном случае? Почему, как в пушкинском романе, не сбылось, не состоялось такое возможное, близкое, уже переживаемое, уже данное герою, а тем самым, казалось бы, достижимое и для героини счастье?
Ответ на этот вопрос – прежде всего в характере и личности героя повести, «нашего Ромео», как иронически именует его Н. Г. Чернышевский45.
Мы уже говорили о том чувстве счастья, которое охватывает Н. Н. сразу после знакомства с Гагиными. Поначалу у этого чувства нет единственного конкретного источника, оно не ищет своей первопричины, не отдает себе ни в чем отчета – это просто переживание радости и полноты самой жизни, безграничности ее кажущихся доступными и осуществимыми возможностей. Однако с каждым следующим эпизодом все очевиднее, что это переживание связано с Асей, порождено ее присутствием, ее обаянием, ее странностью, наконец. Но сам герой предпочитает по-прежнему уходить от каких бы то ни было оценок и определений собственного состояния. Даже когда случайно подсмотренное объяснение Аси и Гагина в саду вызывает у него подозрение в том, что его обманывают, и сердце его преисполняется обидой и горечью, – даже тогда он предпочитает уклониться от формулировок: «Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиными». Чтобы развеять свою досаду, Н. Н. уходит в трехдневное странствование в горы, отдав «себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям», – уходит от тревожащих вопросов, от непредсказуемых ответов, от необходимости самоотчета.
Однако сколько поэзии в передаче этих случайно набегавших впечатлений! Какое гуманное, светлое чувство сохранилось в душе рассказчика даже по прошествии двадцати лет к тем врачевавшим душу местам – приюту его счастливой беспечной молодости: «Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы… Привет тебе и мир!»
Чрезвычайно привлекательна в герое и его внутренняя, глубинная правдивость, не позволяющая ему теперь, когда сердце, пусть даже пока помимо рассудка, занято Асей, искусственно, «с досады», «воскресить в себе образ жестокосердой вдовы». Если развить параллель, к которой, с целью иронической компрометации, прибегает Чернышевский, то для «нашего Ромео» эта жестокосердая вдова – все равно что для шекспировского Ромео – Розалинда: репетиция, проба пера, сердечная разминка.
«Бегство» героя, вопреки его субъективным намерениям, становится толчком к сюжетному ускорению: между Гагиным и Н. Н., по возвращении последнего, происходит необходимое объяснение и обретший новую энергию сюжет, казалось бы, уверенно устремляется к счастливой развязке.
Герой, которому рассказ Гагина «вернул» Асю, чувствует «сладость на сердце», точно ему «втихомолку меду туда налили».
Героиня, в которой подростковая ершистость на глазах вытесняется чуткой женственностью, естественна, кротка и покорна.
«– Скажите мне, что я должна читать? Скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете», – говорит она «с невинной доверчивостью», простодушно выказывая свое чувство и беззащитно сокрушаясь о том, что оно все еще остается невостребованным: «Крылья у меня выросли – да лететь некуда».
Не услышать этих слов, не понять состояния девушки, которая их произносит, невозможно даже гораздо менее чуткому и тонкому человеку, чем наш герой. Тем более что и сам он далеко не равнодушен к Асе. Он вполне сознает тайну ее притягательности: «не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась». В ее присутствии он с особой остротой ощущает праздничную красоту мира: «Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском». Он любуется ею, «облитою ясным солнечным лучом, <…> успокоенною, кроткою». Он чутко фиксирует происходящие в ней перемены: «что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь девически строгий облик». Его волнует ее близость, он ощущает ее притягательное физическое присутствие много времени спустя после того, как обнимал ее в танце: «Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резко обвеянном кудрями».
В ответ на исходящий от Аси призыв героем овладевает неведомая ему дотоле «жажда счастия» – не того пассивного, самодостаточного, счастья, счастья «беспредметного восторга», которое он испытал уже в первый вечер знакомства с Гагиными, а иного, томительного, тревожного – «счастья до пресыщения», жажду которого зажгла в нем Ася и утоление которого сулила она же.
Но – даже мысленно Н. Н. не персонифицирует свое ожидание: «Я еще не смел назвать его по имени». Даже задаваясь риторическим вопросом «Неужели она меня любит?» и тем самым, по существу, обнаруживая, обнажая (пусть всего лишь мысленно) чужое переживание, сам он по-прежнему уклоняется не только от ответа, но даже и от вопроса о собственных чувствах: «…Я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю»; «Я не хотел заглядывать в самого себя».
У этой безотчетности, бессознательности переживаний двоякая, вернее, двуединая природа.
С одной стороны, здесь проявляется молодая беспечность («Я жил без оглядки»), чреватая эгоизмом: печаль, которую Н. Н. читает в облике Аси, вызывает в нем не столько сочувствие к ней, сколько сокрушение на свой собственный счет: «А я пришел таким веселым!».
С другой стороны – и это возможное следствие или, напротив, предпосылка первой причины, – сказывается уже не раз отмеченная нами созерцательность, пассивность характера, предрасположенность героя к тому, чтобы вольготно предаваться «тихой игре случайности», отдаваться на волю волн, двигаться по течению. Красноречивое признание на сей счет прозвучало уже в самом начале повести: «В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне весело было идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат». А в середине повести, в тот самый момент, когда герой томится жаждой «предметного», сопряженного с жизнью другого человека, волнующего, а не баюкающего счастья, в повествовании возникает образ-символ – воплощение характера и судьбы «нашего Ромео».
Возвращаясь от Гагиных после безмятежно проведенного с ними дня, Н. Н., как обычно, спускается к переправе, но, на сей раз, вопреки обыкновению, «въехавши на середину Рейна», просит перевозчика «пустить лодку вниз по течению». Не случайный, символический характер этой просьбы подтверждается и закрепляется следующей фразой: «Старик поднял весла – и река понесла нас». На душе у героя неспокойно, как неспокойно в небе («испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось»), как неспокойно в водах Рейна: «и там, в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды».
Трепет и томление окружающего мира – словно отражение его собственного душевного смятения и, вместе с тем, катализатор, стимулятор этого состояния: «тревожное ожидание мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом». Вот тут-то и возникает неудержимая жажда счастья и, казалось бы, необходимость и возможность немедленного ее утоления, но эпизод завершается столь же знаменательно, как начинался и разворачивался: «лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами»…
Между тургеневскими героями, в отличие от героев пушкинских, нет никаких объективных препятствий: ни окровавленной тени убитого на дуэли друга, ни обязательств по отношению к какому-либо третьему лицу («Я другому отдана…»).
Асино происхождение, которое держит ее в состоянии психологического дискомфорта и кажется неблагоприятным обстоятельством ее брату, для просвещенного, интеллигентного молодого человека, разумеется, никакого значения не имеет.
Н. Н. и Ася молоды, красивы, свободны, влюблены, достойны друг друга. Это настолько очевидно, что Гагин даже решается на весьма неловкое объяснение с приятелем о его намерениях относительно сестры. Счастье, о котором уже так много сказано, в данном случае не просто возможно, но едва ли не обязательно, оно само идет в руки. Но наши герои движутся к нему по-разному, разными темпами, разными путями. Он – по плавной, уходящей в невидимую даль горизонтали, отдавшись стихийному течению, наслаждаясь самим этим движением, не ставя себе цели и даже не думая о ней; она – по сокрушительной вертикали, как в пропасть с обрыва, чтобы или накрыть вожделенную цель, или разбиться вдребезги.
Если символом характера и судьбы героя выступает движение с поднятыми веслами по течению реки – то есть слиянность с общим потоком, доверительное полагание на волю случая, на объективное течение самой жизни, то символический для понимания Асиного характера эпизод – это момент, когда она сидит «на уступе стены, прямо над пропастью», то есть момент противоречия, противоборства, романтического вызова судьбе; развитие и углубление этот символ получит в разговоре Аси с Н. Н. о скале Лорелеи.
Хорошо понимающий свою сестру Гагин в трудном для него разговоре с Н. Н., затеянном в надежде на возможность счастливого разрешения Асиных душевных терзаний, в то же время невольно, но очень точно и необратимо противопоставляет Асю ее избраннику, да и самому себе:
«…Мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза».
Категорическая неспособность «подойти под общий уровень»; страстность натуры («у ней ни одно чувство не бывает вполовину»); тяготение к противоположным, предельным воплощениям женского начала (с одной стороны, ее влечет к себе гетевская «домовитая и степенная» Доротея, с другой – таинственная погубительница и жертва Лорелея); совмещение серьезности, даже трагедийности мироощущения с детскостью и простодушием (между рассуждениями о сказочной Лорелее и выражением готовности «пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг» вдруг возникает воспоминание о том, что «у фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами»); наконец, живость нрава, подвижность, изменчивость – все это составляет очевидный контраст тому, что свойственно Н. Н., что характерно для ее брата. Отсюда и страх Гагина: «Порох она настоящий. <…> беда, если она кого полюбит!», и его растерянное недоумение: «Я иногда не знаю, как с ней быть»; и его предостережение самому себе и Н. Н.: «С огнем шутить нельзя…»
И наш герой, безотчетно любящий Асю, томящийся жаждой счастья, но не готовый, не спешащий эту любовную жажду утолить, вполне осознанно, очень трезво и даже по-деловому приобщается к хладнокровному благоразумию Асиного брата: «Мы с вами, благоразумные люди…» – так начинался этот разговор; «…Мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять», – так безнадежно для Аси он заканчивается. Это объединение (мы, нам) благоразумных, хладнокровных, рассудительных и положительных мужчин против девушки, которая – порох, огонь, пожар; это союз благонравных филистеров против неуправляемой и непредсказуемой стихии любви.
Тема филистерства (обывательской эгоистичной ограниченности) не лежит на поверхности рассказа и, на первый взгляд, акцентирование ее может показаться надуманным. Само слово «филистеры» звучит лишь однажды, в рассказе о студенческом празднике, на котором пирующие студенты ритуально бранят этих самых филистеров – трусливых блюстителей неизменного порядка, и больше оно ни разу в тексте повести не встречается, а по отношению к ее героям кажется вообще неприменимым.
Тонко чувствующий, чуткий, гуманный и благородный Н. Н. вроде бы никак не подходит под это определение. Чрезвычайно привлекательным и абсолютно не похожим на заскорузлого обывателя предстает перед читателем и Гагин. Его внешнее обаяние («Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо…») является отражением душевной грации, которая так располагает к нему Н. Н.: «Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая…»; «…Не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему». Объясняется это расположение не только объективными достоинствами Гагина, но и несомненной душевной и личностной близостью его Н. Н., очевидным сходством между молодыми людьми.
Мы не видим главного героя повести со стороны, все, что мы знаем о нем, рассказывает и комментирует он сам, но, по совокупности всей информации, мы понимаем, что его, как и Гагина, тоже невозможно было не полюбить, что к нему тоже влеклись сердца, что он вполне заслужил высокую аттестацию своего самого беспощадного критика – Чернышевского: «Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений»46.
Однако сходство Н. Н. с Гагиным является не только добрым знаком, но и тревожным сигналом. В «пожароопасной» ситуации влюбленный Н. Н. ведет себя так же, как влекущийся к творческим свершениям Гагин: «Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь». Выслушавший это признание Н. Н. старается ободрить товарища, но мысленно ставит безоговорочный и безнадежный диагноз: «…Нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь». Он уверен в этом потому, что знает это изнутри, из себя, так же как его двойник Гагин знает про него: «…вы не женитесь».
«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – вот он, классический образчик филистерской логики, которая вытесняет и поэтический настрой, и жажду счастья, и душевное благородство. Эта та самая логика, которая в другом знаменитом произведении русской литературы будет ужата до классической формулы «футлярного» существования: «Как бы чего не вышло…».
Настрой, с которым герой идет на свидание, вновь актуализирует, выводит на поверхность повествования пушкинскую формулу счастья, но делает это парадоксальным, «наоборотным» образом.
Герой помнит о своем порыве, но словно дистанцируется от него вопросом-воспоминанием: «А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья?» Н. Н. не может не понимать: «Оно стало возможным…»; он честно признается себе в том, что только в нем теперь дело, только за ним остановка: «…и я колебался, я отталкивал», но, словно уходя от последней ответственности, прячется за какой-то мифический, надуманный, несуществующий императив: «…я должен был оттолкнуть его прочь…».
Выделенные нами слова, составляющие смысловой каркас размышлений героя перед решающим объяснением, с одной стороны, отсылают к Пушкину, а с другой – опровергают пушкинскую логику.
Возможность соединения, которая в момент последнего свидания героями «Евгения Онегина» безвозвратно утеряна, у героев «Аси» есть. Долженствование, которое там не подлежало сомнению, ибо речь шла о долге супружеской верности, в данном случае просто отсутствует: ни Н. Н., ни Ася никому ничего не должны, кроме как самим себе быть счастливыми. Многократно апеллирующий к некоему долгу перед Гагиным уже во время свидания, герой откровенно лукавит: Гагин приходил к нему накануне не для того, чтобы воспрепятствовать, а для того, чтобы содействовать счастью сестры и горячечным, по ее просьбе, отъездом не разлучить ее с тем, кто может составить ее счастье.
Нет, Гагин никак не годится на роль неумолимого Тибальта. Как не справился с ролью Ромео и господин Н. Н. И даже волнующая и беззащитная близость Аси во время свидания – ее неотразимый взгляд, трепет ее тела, ее покорность, доверительное и решительное «Ваша…», и даже ответный огонь в собственной крови и минутный самозабвенный порыв навстречу Асиной любви – ничто не перевешивает таящегося в глубине души Н. Н. страха («Что мы делаем?») и неготовности взять ответственность на себя, а не перелагать ее на другого: «Ваш брат… ведь он все знает… <…> Я должен был ему все сказать».
Асино ответное недоумение «Должны?» абсолютно совпадает с читательской реакцией на происходящее во время свидания. Да и сам герой чувствует нелепость своего поведения: «Что я говорю?» – думает он, но продолжает говорить то, что ничего, кроме чувства неловкости и разочарования, вызвать не может. Он обвиняет Асю в том, что она не сумела скрыть от брата своих чувств (?!), заявляет, что теперь «все пропало» (?!), «все кончено» (?!) и при этом «украдкой» наблюдает за тем, как краснеет ее лицо, как ей «стыдно становилось и страшно». «Бедное, честное, искреннее дитя» – сокрушается рассказчик по прошествии двадцати лет, но во время свидания она не услышит даже онегинского холодного, но уважительного признания: «Мне ваша искренность мила»; тургеневский герой по достоинству оценит эту искренность лишь с безнадежного и непреодолимого расстояния.
Бесхитростной, простодушной, страстно влюбленной Асе и в голову не могло прийти, что сокрушительные формулы «все пропало», «все кончено» – это всего лишь защитные фразы потерявшегося молодого человека, что, придя на свидание, герой «еще не знал, чем оно могло разрешиться», что слова, которые он произносил и которые звучали так безнадежно категорично, скрывали внутреннее смятение и беспомощность. Бог знает, сколько бы это длилось и чем кончилось – плыть по течению ведь можно бесконечно. Но падать с обрыва бесконечно нельзя: Асе достало решимости назначить свидание, достало ее и на то, чтобы прервать его, когда продолжение объяснений показалось бессмысленным.
Плачевный итог этой сцены – грустная пародия на финал «Евгения Онегина». Когда Ася «с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла», – герой остался стоять посреди комнаты, «уж точно, как громом пораженный». Использованные здесь метафора и сравнение акцентируют мотив грозы, огня, который на протяжении всей повести служит воплощением Асиного характера и Асиной любви; в рамках эпизода эти приемы задают динамику развития образа: она исчезла «с быстро- тою молнии» – он остался стоять, «как громом пораженный».
Но кроме того, и это едва ли не главное, фраза «уж точно, как громом пораженный» отсылает читателя к пратексту:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
И эта отсылка многократно усиливает, усугубляет трагическую нелепость случившегося.
Там – «буря ощущений», порожденных таким желанным Татьяниным признанием в любви и таким правомерно безоговорочным ее отказом этой любви отдаться. Здесь – полное душевное смятение и неразбериха при абсолютном отсутствии объективных проблем: «Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться…»
Там – «шпор незапный звон раздался» и показался муж как олицетворение законного и непреодолимого препятствия счастью. Здесь появляется фрау Луизе, содействовавшая любовному свиданию и всем своим изумленным видом – «приподняв свои желтые брови до самой накладки» – подчеркивающая грустный комизм ситуации.
С Онегиным мы расстаемся «в минуту, злую для него», Н. Н. выходит из комнаты, где происходило свидание, и из соответствующего эпизода повести, по его же собственному определению, «как дурак».
Но, в отличие от романа Пушкина, повесть Тургенева неудачным объяснением героев не заканчивается. Н. Н. дается – и это редчайший, уникальный, случай, «контрольное» испытание и вместе с тем демонстрация закономерности, неизбежности происходящего – еще один шанс, возможность все исправить, объясниться если не с Асей, то с ее братом, попросить у него ее руки.
То, что герой переживает после так глупо кончившегося свидания, вновь и вновь отсылает нас к пушкинскому тексту.
Сравним:
Пушкинская триада – досада, безумство, любовь – у Тургенева усилена и подчеркнута повторением. Чужой опыт подключается к опыту просвещенного, чуткого и восприимчивого Н. Н. – не для того ли, чтобы он мог избежать чужих и не наделать своих ошибок?
Приходит, наконец, и решимость, вырастают крылья, возникает уверенность в обратимости, исправимости случившегося, в возможности, близости, уловимости счастья. Не как обещание, а как торжество обретения звучит для героя ритуальная песнь соловья: «…мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье». Но так только казалось…
А читателю, в свою очередь, может показаться, что и этот второй, так щедро подаренный герою судьбой (и авторской волей) шанс Н. Н. упускает исключительно по причине собственного безволия и нерешительности: он «чуть было» не выказал своей созревшей решимости просить Асиной руки, «но такое сватанье в такую пору…». И вновь беспечное полагание на естественное течение событий: «завтра все будет решено», «завтра я буду счастлив»…
И эта же беспечность – в том, что хотя поначалу «не хотел смириться» с случившимся, «долго упорствовал» в надежде настигнуть Гагиных, однако в конце концов «не слишком долго грустил» и «даже нашел, что судьба хорошо распорядилась», не соединив его с Асей.
«Компрометирующий» отсвет отбрасывает на героя и параллель между ним и хорошенькой служанкой Ганхен, которая искренностью и силой своего горя от потери жениха весьма впечатлила Н. Н. перед предстоявшим свиданием с Асей и направила его мысли в невеселое русло, а в момент отъезда из З. вслед за Гагиными, которых он все-таки надеялся отыскать, он вдруг вновь увидел Ганхен, еще бледную, но уже не грустную, в обществе нового ухажера. И только маленькая статуя мадонны «все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня», храня верность раз и навсегда приданному ей облику…
И все-таки в поведении героя, которое столь искусительно было бы объяснить его безволием и безответственностью, проявляется какая-то неведомая ему самому, но руководящая им закономерность. Независимо от всех вышеизложенных частных обстоятельств, которые в принципе можно изменить и исправить, неизбежно надвигается трагический финал.
«Завтра я буду счастлив!» – убежден Н. Н. Но завтра ничего не будет, потому что, по Тургеневу, «у счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновенье». Этого не знает, не может и не должен знать герой – но знает и понимает всем опытом своей жизни рассказчик, который в данном случае несомненно формулирует авторское мироотношение.
Здесь-то и обнаруживается кардинальное, принципиальное, необратимое расхождение с Пушкиным.
В. Узин и в отрадных, обнадеживающих «Повестях Белкина» усмотрел свидетельства «немощности и слепоты человека», лишь волею прихотливого случая не ввергнутого «в бездну мрака и ужаса»47, но у Пушкина эта трагическая перспектива присутствует как преодолеваемая усилием его авторской «героической воли» (Мережковский), что и дает основание М. Гершензону из тех же обстоятельств сделать обнадеживающий вывод: «…Пушкин изобразил жизнь-метель не только как властную над человеком стихию, но как стихию умную, мудрейшую самого человека. Люди, как дети, заблуждаются в своих замыслах и хотениях, – метель подхватит, закружит, оглушит их, и в мутной мгле твёрдой рукой выведет на правильный путь, куда им, помимо их ведома, и надо было попасть»48.
Тургенев художественно реализует скрытый трагический потенциал пушкинского дискурса.
«Счастье было так возможно, так близко…» – говорит Пушкин, относя трагическое «но» на волю частного случая и предъявляя доказательства принципиальной возможности счастья в «Повестях Белкина» и «Капитанской дочке».
По Тургеневу же, счастье – полновесное, долговременное, прочное счастье – не существует вообще, разве только как ожидание, предчувствие, канун, самое большее – мгновение. «…Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, ее разгадка», – эти финальные строки «Фауста» выражают и сокровенную идею «Аси», и всего творчества Тургенева в целом.
Тургенев замечательно тонко и убедительно разрабатывает психологическую мотивировку неизбежности драматического финала – эмоционально-психологическое несовпадение героев. К сказанному на этот счет ранее добавим еще несколько слов.
Во время решительного объяснения с Асей герой среди множества нелепых, неловких, беспомощных фраз роняет одну весьма точную и даже справедливую, хотя все равно неуместную в тот момент: «Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать…»
И хотя, как справедливо пишет Недзвецкий, в своем «жертвенно- трагическом уделе вполне равны и одинаково “виновны”, по Тургеневу, как женщины, так и мужчины» и все сводить к «цельности первых и “дряблости” вторых» действительно «неверно по существу»49, но и игнорировать принципиальное различие между поведенческими стратегиями тургеневских женщин и мужчин вряд ли целесообразно, тем более что именно это различие во многом и обусловливает сюжетное движение, лирический накал и итоговый смысл тургеневских произведений.
Максималистке Асе нужно все и немедленно, сейчас. Ее нетерпение можно было бы списать на социально-психологическую ущемленность, которую она пытается таким образом компенсировать, но так же нетерпеливы и категоричны и другие, изначально абсолютно благополучные «тургеневские девушки», включая самую счастливую из них – Елену Стахову.
А Н. Н. – человек прямо противоположной психической организации: «постепеновец», созерцатель, выжидатель. Значит ли это, что он, по определению Чернышевского, «дряннее отъявленного негодяя»50? Конечно, нет. Дает ли его поведение на rendez-vous основание судить о его общественно-исторической несостоятельности? Для радикальных действий он на самом деле непригоден, но кто сказал, что радикализм есть единственно приемлемый способ решения общественно-исторических задач? Чернышевский нарочито сужает смысл тургеневской повести, он не столько углубляется в ее анализ, сколько делится с читателем своими размышлениями по прочтении на социально-политические темы.
В самой же повести есть история субъективной вины не сумевшего удержать плывущее в руки счастье героя, так что в принципе можно усмотреть в ней и скрытый намек на социальную несостоятельность людей такого типа, как Н. Н.
Еще более явственно прочитывается здесь драма эмоционально-психологического несовпадения любящих друг друга мужчины и женщины.
Но в конечном итоге это повесть о невозможности, миражности счастья как такового, о неизбежности и непоправимости утрат, о непреодолимом противоречии между субъективными человеческими устремлениями и объективным течением жизни.
Трагический смысловой остаток «Аси», как и творчества Тургенева в целом, выступает безусловным отрицанием того жизнеутверждающего пафоса, которым исполнено творчество Пушкина. Но, расходясь с Пушкиным в осмыслении экзистенциальных вопросов человеческого бытия, Тургенев был несомненно верен Пушкину в благоговении перед «святыней красоты» и способности созидать эту красоту в своем творчестве.
Даже трагические итоги своих произведений он умел насыщать такой возвышенной поэзией, что звучащие в них боль и грусть даруют читателю утоление и отраду. Именно так – безнадежно грустно и в то же время возвышенно поэтично, светло – завершается «Ася»: «Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле… И я сам – что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека»…
40
Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика. М.: Современник, 1982. С. 300.
41
Мережковский Д. С. Пушкин. С. 204.
42
Бушмин А. С. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л.: Наука, 1969. С. 174.
43
См.: Недзвецкий В. А. Любовь – крест – долг… (О повести Тургенева «Ася») // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1996. Т. 55. № 2.
44
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. М.: Современник, 1983. С. 93, 94.
45
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 94.
46
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 58.
47
Узин В. С. О повестях Белкина. Из комментариев читателя. Петербург: Аквилон, 1924. С. 51, 68.
48
Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. С. 134.
49
Недзвецкий В. Н. Русский социально-универсальный роман: Становление и жанровая эволюция. М.: Диалог-МГУ, 1997. С. 164, 166.
50
Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous. С. 95.