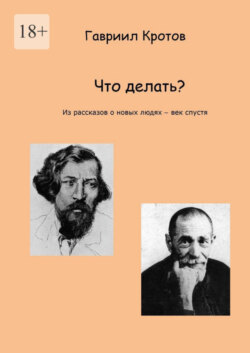Читать книгу Что делать? Из рассказов о новых людях – век спустя - Гавриил Яковлевич Кротов - Страница 10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Жизнь Веры Павловны в родительском доме
ОглавлениеВоспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь её до знакомства со студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное.
Вера Павловна выросла в многоэтажном жэковском доме на Мытной улице. Таких однотипных домов, похоже расположенных, был около десяти. Они были настолько одинаковые, что даже не очень пьяный жилец мог лишь с трудом определить свой корпус. Поэтому каждый из этих домов пометили огромной двухметровой цифрой. На доме, где жила Вера Павловна, стояла цифра 5. Каждый дом был с четырьмя подъездами, выходившими на улицу, и четырьмя чёрными ходами, выходившими во двор – в то время неровный и замусоренный.
Во дворе от столба к столбу были натянуты верёвки, на которые вывешивали образцы мужского и дамского гардероба, зачастую весь интимные. Когда бельё стало исчезать, то его стали вывешивать на балконах, уже не для детального, а для всеобщего обозрения.
Верочке не разрешали играть во дворе и на улице, потому что вышедшие из квартир мальчики тотчас же становились уличными мальчишками. Как известно, при близком расположении к ним любые добродетели вяли, линяли, вообще подвергались смертельной опасности. Верочке разрешали гулять только с няней-гувернанткой, которая учила Верочку французскому языку и хорошим манерам. Сама гувернантка сумела сохранить свои женские добродетели и хорошие манеры образца 1913 года. Следовательно, давали воспитание с гарантией на прочность.
Потом Верочка стала посещать школу, уроки музыки и балетную школу, а гувернантку сменила приходящая репетиторша, которая учила Верочку английскому языку (учитывалась изменившаяся политика). Для Верочки покупались (доставались) билеты в зал Чайковского, на оперы, в театр, но тоже под наблюдением англичанки. Книги для Верочки покупались самые лучшие, то есть издания Кнебеля, Ефрон-Брокгауза – по выбору ещё англичанки, ещё более добродетельной и чопорной. В верочкиной библиотеке были сочинения Шекспира, Скотта, Диккенса, Голсуорси, По, Жюль Верна, Шеридана, Скриба, Дюма, Мюссе, Шатобриана.
От домашней работы Верочка была освобождена, ей даже запрещалось работать, и со всем хозяйством справлялась Матрёна, которую верочкина мать называла не иначе как «дурища».
Но если матери не было дома, а репетиторша задерживалась, Верочка охотно включалась в кухонную работу, при которой терялась гибкость пальцев и портилась фигура, что должно было отразиться на музыке, балете и все жизни Верочки.
Павел Константинович Розальский – отец Верочки – был управдомом жэковских домов и преуспевал на этом поприще. Это был плотный, видный мужчина с лицом и послужным списком, внушающими доверие. Жена его – Мария Алексеевна – считала его увальнем и нерасторопным: иной бы на его месте… Но Павел Константинович был не столько нерасторопным, сколько осторожным. На работе он был непреклонен, строго руководствовался инструкциями, и всё было в порядке. Для решения щепетильных вопросов его бухгалтер – доверенное лицо – заходил на квартиру к Розальскому, и там они решали некоторые детали работы: сколько рейсов можно сделать «на карандаш» и кому сколько причитается от этой операции.
Со своими сотрудниками он был в самых хороших отношениях, и они иногда запросто заглядывали к нему на квартиру. С иными он выпивал чашку чая, с иными по рюмочке увеселительных напитков, закусывая «чем бог послал». С богом у него отношения тоже были не испорчены, и бог посылал неплохие закуски, всегда кстати.
Разговор при этом был самый деловой и показывал, как люди болеют за свою работу. Говорили о том, как можно сэкономить материал и как рентабельнее освоить ассигнования. Из этих разговоров делался вывод: «Вот так-то будет в ажуре». И друзья убеждались, как важно работать рука об рука и как неудобно умываться одной рукой.
Розальские занимали всю правую секцию лестничного марша второго этажа, то есть пять комнат, кухню и ванную, и были не контабельны с остальными жильцами. Это требовало некоторой юридической ловкости, но она была у супругов Розальских. Эти тонкости недоступны людям обычной категории, но Розальские учли всё до тонкости и были неуязвимы: юридически они были разведены и дети поделены – получались два семейных квартиросъёмщика. Это давало право на две комнаты каждой семье; пятая комната был записана за братом Константина Павловича, который служил лесничим под Вологдой. Пока Верочка была маленькой, она жила в «дядиной» комнате, а потом эта комната так и стала называться верочкиной.
Павел Константинович дважды в год совершал ритуал священнодействия перед Первым мая и под Новый год. Он доставал несколько сберегательных книжек и пачки трёхпроцентного займа, подсчитывал, записывал, щёлкал на счётах. Эти подсчёты доставляли ему видимое удовольствие.
– Ну как? – спрашивала Мария Алексеевна.
– Да ничего. Тысчонок несколько осталось.
– Десяти не набрал?
– Да около того. В общем, проживём.
У Марии Алексеевны был свой капиталец, но учитывала она его чаще, то радуясь, то вздыхая.
Мария Алексеевна – худощавая, крепка, высокого роста, с калейдоскопически выразительным лицом, которое то расплывалось приторно-приветливой улыбкой, когда она говорила: «Что изволите?», то делалось надменно суровым, когда она цедила сквозь зубы: «Ну, уж это извини-подвинься», но выражало лютую злобу, когда говорила: «Накося выкуси!». Существовали многие промежуточные нюанс, и пользовалась она ими безошибочно.
Но Верочке запомнилось одно выражение лица матери, когда она возвращалась домой с пьяными помутневшими глазами и отекшим лицом, потерявшим свою выразительность. Она заходила в комнату, где семья собиралась на ужин, смотреть телевизор или просто почитать журналы. Не стесняясь никого, Мария Алексеевна поднимала подол, запускала руку в рейтузы и вынимала свёртки с ветчиной, сёмгой, икрой и другими продуктами. Верочке это было противно до омерзения, она отворачивалась, опускала голову.
– Ты, Верка, чего рыло-то воротишь? Не нравится?.. А это нравится? – говорила она, доставая из-за пазухи плитки шоколада, конфеты, жестяные коробки с халвой или консервами. – То-то! Подохните вы без меня!
Во время войны Мария Алексеевна работала в пивном киоске и была довольна судьбой. Здесь она познакомилась с Павлом Константиновичем, и они поженились. Соседи Павла Константиновича с первых дней войны ушли на фронт (и чего им не сиделось?), да так и не вернулись, и Розальские заняли всю секцию.
Работать теперь в пивном киоске уже казалось неприличным, и Марии Алексеевне удалось поступить заведующей буфетом в Химкинском порту. Но идеалом земного счастья она считала работать в ресторане «Хотель Савой», а тем более заведовать буфетом в Интуристе. Связи у неё были, но мешало незнание иностранных языков.
Зато для дочери она не жалела средств, учила и французскому, и английскому языкам. Как мать она мечтала воплотить в дочери свой идеал – приспособив её к доходному месту. Ещё мечтала выдать её замуж за… Тогда и самой можно в Кремлёвском буфете похозяйничать. Мечта Марии Алексеевны не было оторвана от Земли. Кроме родительских чувств здесь были и коммерческие расчёты. В дочери она видела доходную статью и не жалея вкладывала в это предприятие деньги. От этого было немало волнений и тревог, так как фирма могла отказаться неплатёжеспособной.
Когда Верочке было десять лет, мать, отправляясь с ней на рынок или в магазин, частенько награждала её подзатыльниками.
– Что ты шагаешь, как на ходулях? Не гнутся у тебя ноги, что ли? Господи, в кого уродилась такая уродина – ни кожи, ни рожи? Да и рожа-то какая-то цыганская. Умывайся ты тёплой водой да рожу-то на ночь кремом мажь! Такую-то тебя и лифтёршей аль гардеробщицей не возьмут к иностранцам. Да и замуж-то разве за кузнеца колхозного можно выдать.
Из этого можно понять, что Верочка росла дурнушкой. Вытянулась в длину, худая да плоская, как доска. Смуглое лицо и длинный нос делали её похожей на цыганку. Губы были пухлые, а нижняя губа даже толстая, безвольно опустившаяся вниз.
– И в кого у тебя такой паяльник? А губы-то – словно поганая муха укусила.
Однако к пятнадцати годам бывает так, что детская красота пропадает, а дурнушка, как гадкий утёнок, становится красавицей. Верочка пополнела, оформилась, природная грация, отработанная балетом, подчёркивала изящество фигура. Нос стал классическим римским, а такие губы, как у Верочки, можно было встретить только у античных статуй.
Когда Верочке исполнилось шестнадцать лет, Мария Алексеевна начала наряжать дочь и, когда позволяло время, сопровождала её в театр и на концерты. Там она безбожно спала, но одну Верочку никуда не пускала.
– Лаком кусок. Охотников-то много найдётся, да не по губам конфетка!
Дочери она говорила:
– Ты, Верочка, не сердись. Ты дитя неопытное, тебя любой краснобай-прощелыга улестить может. Вот выйдешь замуж за стóящего человека, тогда полная тебе воля. Мужа обманывай сколько хочешь, только в руках держи. А до этого ни о каких там фиглях-миглях и думать не смей!
Так под неусыпным надзором доросла Верочка да шестнадцати лет. Окончив десятилетку, она поступила в институт иностранных языков. Как-то пришла Мария Алексеевна в институт, насмотрелась на узкие брючки и широкоплечие пиджаки и растревожила своё сердце: «Здесь одни бандиты! Нет, тут Верочку, пожалуй, не убережёшь, а ещё год дотянуть надо: тогда уже постараюсь в Интурист протолкнуть».
Но вскоре на горизонте появилось новое действующее лицо, которое изменило курс семейной политики.
Однажды в гости к Павлу Константиновичу пришёл майор интендантской службы Михаил Иванович Сторешников, человек лет тридцати. Уверенность его действий показывала, что человек крепко сидит на своём месте.
– Я к вам, Павел Константинович. Небольшое дельце. Мне до зарезу нужны десять тонн цемента.
– Если бы я их имел! Посмотрите сколько требований, а мне даже глаза просителям запорошить нечем.
– Знаю, Павел Константинович, что у вас ни килограмма не числится. Но ведь могут оказаться где-то забытые десять тонн. Лежат себе где-нибудь в котельной. А вдруг ОБХСС заглянет? Лучше заранее вспомнить.
– Откуда у вас такие сведения?
– Дело военное: разведка, связь и донесение. А за такие донесения мы наличными платим. И вообще мы платим наличными.
– Не знаю, не знаю. Не помню, чтобы у меня такие запасы были. Но загляните вечерком ко мне на квартиру, я осмотрю все закоулки.
– Нет уж, увольте! Я человек семейный, квартира у меня отдельная, а в ресторане, знаете, всякие…
– ОБХССовцы, – докончил Михаил Иванович. – Я не возражаю. Вы что предпочитаете пить?.. Так значит в 20.00, корпус 5, квартира 16.
Посещение Михаила Ивановича Сторешникова произвело в семье Розальских большой фурор. Шофёр внёс чемодан и передал его Марии Алексеевне. Она по достоинству оценила содержимое: «Солидный мужчина, не хочет на даровщину. Моему идолу потрафляет, однако ничего не забыл: мужчинам – коньяк, даме – кагор, девушке – рислинг, даже Феде шоколадная бутылочка с ромом; лимоны, шпроты, конфеты – всё высшего сорта».
Верочка, как видно, произвела на Михаила Ивановиче сильное впечатление. Он шутил и недвусмысленно ухаживал за Верочкой. О деле ни слова. Только одевая плащ, он, продолжая шутки, сказал:
– Павел Константинович, какая цифра вам больше всего нравится?
– С детства люблю пятёрки.
– Хорошая цифра! Но мне в детстве нередко перепадала двойка, а тройка с минусом вполне меня удовлетворяла. Так во сколько часов удобней прислать машину? Подержите, пожалуйста, свёрток. До свидания!
На этом знакомство Сторешникова с Розальскими не прекратилось. Теперь оно цементировалось явным ухаживанием за Верочкой.
На Первое мая Сторешников пригласил Розальских в ресторан «Москва». Первый день в этом году был открыт ресторан на крыше. Чудесный вид ночной Москвы. Столик заказан на 8 часов. За Розальскими была прислана автомашина – необычайный «Хорх».
Каждый по-своему оценил этот вечер и обстановку ресторана.
Павел Константинович ел не с наслаждением гурмана, а больше возмущался: «Эта курица со всеми потрохами стоит полтора рубля, а здесь отрубили кусок, назвали чахохбилем и берут 4 рубля 84 копейки – дороже барана. Выходит, что 3 рубля 33 копейки за шик берут. Огурец несчастный дороже, чем ананас на Арбате.
Мария Алексеевна оценивала всех людей по их костюмам, официанток – по их манерам, но видела и закулисную сторону ресторана: «Здесь меньше пятёрки и швейцару не дашь. Интересно, сколько официантки дают завбуфетом?».
– Вот где золотое дно! – думала Мария Алексеевна.
– Вот где грязное болото! – думала Верочка.
– Вот где шикарные люди! – думала Мария Алексеевна.
– Вот где пошлые люди! – думала Верочка.
Михаил Павлович поздоровался с парочкой, сидевшей за соседним столиком. Мария Алексеевна оценила и это знакомство: «Вот с каким людьми знакомство-то водит. Заграничные штучки!». Сторешников представил своих знакомых:
– Это Серж – работник министерства внешней торговли и его подруга Жюли – парижанка.
Серж подозвал Сторешникова и что-то спросил его по-английски. Выслушав ответ, Серж сказал по-русски:
– А у тебя губа не дура.
Жюли что-то спросила Сержа по-французски, и он ответил ей. Вдруг Верочка встала и пошла. Мария Алексеевна кинулась за ней.
– Ты что это? Какая муха тебя укусила?
– Я уйду, мама.
– Не дури, мерзавка!
– Как хотите, ругайте, но я уйду.
Розальские поспешно распрощались и ушли.
Серж удивлённо спросил Сторешникова:
– Ты говоришь, что это твоя новая любовница? Почему же она так поспешно ушла?
– Разве не понимаешь, Серж, – праздничный ужин, семейный конвой… Разве при них повеселишься?
– Она говорит по-французски? – спросила через Сержа Жюли.
– Она учится в институте Инъяза, но, кажется, на английском факультете.
– Тогда скажи ему, что он – подлец. Она поняла наш разговор и оскорбилась. Это чистая душа, а он – подлец! Переведи ему это.
– Ты, братец, влип! – перевёл Серж. Я рассказал Жюли, что эта девушка – твоя любовница, а Вера Павловна, очевидно, всё поняла.
– Скажи своей Жюли, что в следующее воскресенье я приглашаю вас на пикник. Пусть она посмотрит, куда уходят влюблённые пары. Держу пари!
– Принимаю. Проигравший оплачивает расходы.
* * *
Михаил Иванович Сторешников понял, что главной пружиной в семье была Мария Алексеевна. Именно ей он и нанёс визит на следующий день в ресторан Химкинского порта, тактично выбрав время, когда Мария Алексеевна сменялась с дежурства. Он пригласил её поужинать вместе в этом же ресторане, чем несколько угодил её самолюбию. Пусть смотрят, с каким человеком она водит знакомство. Михаил Иванович не скупился на угощения. За ужином он пригласил чету Розальских на пикник в Серебряный Бор.
– Компания будет небольшая: Серж и Жюли, и ещё два товарища с подругами. Один из министерства иностранных дел, другой из аппарата Верховного Совета – снабженец.
– Да удобно ли будет, Михаил Иванович? Все люди молодые, парами, а я – так, сбоку припёку. Павел-то Константинович наверняка не поедет.
– «Слава богу», – подумал Сторешников, а Мария Алексеевна продолжала:
– Верочка одна ни за что не поедет, совсем ребёнок, а я только мешать буду.– Вы правы, Мария Алексеевна, неудобства, конечно, есть. Но что же поделаешь, если я опоздал жениться.
– Так уж и опоздали! – с лукавой улыбкой сказала Мария Алексеевна.
– Не опоздал, а не торопился. Не находилось девушки по сердцу. Я, Мария Алексеевна, за первой встречной не побегу. Мне нужна особенная подруга, на всю жизнь. Мне приходится бывать в правительственных кругах, среди иностранцев, и за границу ездить придётся. Мне нужна подруга скромного воспитания, образованная, а такую нелегко встретить. Вот Вера Павловна… Я, правда, мало знаком с ней, но я человека с первого взгляда вижу. Вот вы, например, Мария Алексеевна, разве вам пассажиров обслуживать, которые пересчитывают копейки – хватит ли на билет и останется ли на метро? Разве такие клиенты понимают что-нибудь в блюдах и сервировке? Им что шницель по-венски, что мясо по-деревенски, лишь бы дёшево было. Вам с вашими способностями в Кремлёвском буфете работать, международные банкеты обслуживать.
Насчёт Веры Павловны не сомневайтесь, в обиду не дам. Я должен извиниться перед вами за вчерашнее, но вины моей здесь нет, а людям своего ума не навяжешь. Жюли – прекрасная женщина, но у них, у французов, если не женат, то любая подруга и даже знакомая считается вроде как любовница. У них и слова-то такого нет, как «подруга» или «знакомая». Вере Павловне это могло показаться обидным, ведь она ещё так молода. Мало, Мария Алексеевна, французский язык понимать, главное – людей понимать надо. Так уж вы, Мария Алексеевна, попросите извинения у Веры Павловны. Сам-то я, поверьте, робею.
«Втрюхался, голубчик, – подумала Мария Алексеевна. Не робкого десятка чадушка, а коль робеешь, то это нашему козырю в масть. Не будет дурой Верка, будет в руках держать голубчика».
– Ну что ж, Михаил Иванович, не буду вам отказывать, да и Верочке пользительно будет с хорошими людьми познакомиться, свет увидеть. Не буду разбивать вам компании, а чтобы мне не играть в «третий лишний», буду около вас как буфетчица.
– Мария Алексеевна, я знал, что вы умная женщина, но такой тактичности, признаться, не ожидал. Вот вам пятьсот рублей, закажите основные закуски, наймите двух официанток, чтобы самой не бегать. Вина и деликатесы мы привезём на машинах. Машину за закусками и сервизами пришлю в воскресенье к 9 часам утра, а за вами к 9 часа заеду на машине.
Вечером Мария Алексеевна сказала Верочке:
– Верочка, закажи к воскресенью самое лучшее платье. Я тебе приготовила суприз – поедем на пикник с такой компанией, что закачаешься. Всё для тебя, дурочка, последние деньги не жалею. Одной гуверняньке сколько переплачено, а фортопианьщику, а балерине!.. Ты это не ценишь, неблагодарная. Обидел он тебя, что в ресторан пригласил? Честь тебе, дура, делает.
– Да знаешь ли ты, мама, какого они обо мне мнения? Знаешь ли, зачем Михаил Иванович, меня напоказ выставляет?
– Мало ли что люди не наговорят. Всего не переслушаешь. Может, они это из зависти говорят.
– Нет, я не поеду.
Мария Алексеевна вспыхнула.
– Ты у меня поломайся, поломайся, мерзавка! Человек тебе почти делает предложение, а ты морду воротишь!
– Нет, предложения вы от него не дождётесь. Да и пикник этот не с доброй целью затевается. Ему новая игрушка нужна, прежние-то надоели. Нет, мама, не нужен мне такой жених.
– А какой жених тебе нужен?! Снюхалась с кем-нибудь под воротами. Да я тебе патлы выдеру, из личика твоего отбивную сделаю. Уж я подам этому хахалю твою морду всмятку – оба довольны будете.
Не удержалась Мария Алексеевна и рванула дочь за волосы, но только раз и слегка.
– Нет у меня никакого хахаля, но и любовницей Михаила Ивановича не буду!
– Никто тебя в любовницы и не прочит. Разве я не хочу тебе счастья? Разве я дам тебя в обиду? Для того и сама еду. Если не предложение, то я его, голубчика, в бараний рог скручу. В мешке в ЗАГС принесу, за виски к столу-то подведу, да ещё рад будет. Да нечего с тобой долго говорить, и так лишнего наговорила. Девушкам не следует много знать, это материно дело, а она ещё ничего не понимает. Знает, что есть любовь, а что это такое представления не имеет. И я знаю, что такое автомобиль, а доведись – баранку крутить не сумею, не говоря уж о том, чтобы мотор наладить. Любовь-то она посложнее мотора будет, но в ней-то я разбираюсь. Подумай, разве убудет тебя, если в компании посидишь? Ну, будешь делать, как я велю?
– Да, буду.
– То-то! Пора за ум взяться. Побойся бога, да пожалей мать.
Прошло минут пять.
– Верочка, ты на меня не сердись. Я из любви к тебе бранюсь, тебе же добра хочу. Ты не знаешь, как дети милы матерям. Девять месяцев тебя в утробе носила! Ты уж отблагодари, Верочка, будь послушна. Сама увидишь, что к твоей же пользе всё делаю.
Пикник был организован великолепно, даже с точки зрения Жюли и Сержа. Место было выбрано на редкость живописное. Грузовая машина доставила, а солдаты установили палатку типа полевого госпиталя для отдыха и на случай плохой погоды. Вторая палатка служила буфетом и кухней. Любителей каши с дымком здесь не было. Закуску и сервировку Мария Алексеевна подготовила лучше некуда. Здесь было всё: от тонких блюд до свежих овощей и фруктов. Участники пикника привезли с собой вина лучших иностранных марок. Марию Алексеевну пригласили в общий круг, чем польстили сверх всякой меры.
– Смею спросить, Мария Алексеевна, вы какие вина предпочитаете?
– Я, Михаил Иванович, признаться вам сказать, почти что не пью. Не женское это дело.
«Оно и по роже видно, что не пьёшь», – подумал Сторешников.
– Конечно, так, Мария Алексеевна, но французские вина тонкого изготовления. «Мараскин» даже дети во Франции пьют. Просто не вино, а можно сказать, сироп. А вот перед гусем с провансалем полагается рюмочку виски. Это очень полезно. Англичане – не дураки. А перед салатом «Весна» надобно выпить эль. Это всё равно что пиво. Попробуйте, Мария Алексеевна
– Если вы говорите – пиво, позвольте, пива почему не выпить.
«Господи, сколько бутылок! Ах, какая я глупая. Вот она, жизнь-то! Тысячи рублей в полгода не заработаешь, а тут на один пикник эту самую тысячу, как гривенник, вынули. А славная эта эль – и будто кваском припахивает, и сила есть. Хорошая сила есть. Когда Верку с Мишкой окручу, водку брошу, всё эту эль буду пить».
Перед заливной осетриной пришлось выпить коньячку, а перед тортом – мадеры. Перед мороженым Серж составил коктейль, а дальше уже Мария Алексеевна ничего не помнит. Однако чинно, благородно, ушла в палатку и уснула.
А компания продолжала веселиться. Жюли изображала Кармен, пела народные песни репертуара Пти-Пари и испано-цыганские напевы. Потом попросили спеть Веру Павловну. Она не упрямилась. Ей очень нравилась Жюли, и Верочка всё время держалась около неё. Жюли подала Вере Павловне гитару, и та прекрасным меццо-сопрано спела песню «Меж высоких хлебов затерялось». Жюли была в восторге.
– Вы – актриса. В Париже вас осыпали бы цветами и золотом. Спойте ещё. Спойте самую любимую вашу песню. Знаете, такая песня бывает одна. В ней – душа человека.
Вера Павловна с глубоким чувством спела песню Кольцова «На заре туманной юности». Когда она пела последние строки:
И рыдая, как безумная,
на груди моей повиснула, —
Жюли была в восторге и тоже была растрогана до слёз.
– Боже, как очаровательны русские песни! Сколько в них грусти… А мы, французы, даже о грустном поём весело.
– Милая Жюли, я не была во Франции, но люблю французский язык, французскую литературу, французское искусство. Вы говорите, что в Париже меня осыпали бы цветами и золотом, но Беранже дал прекрасную песню о судьбе актрисы. И Вера Павловна спела по-французски песню о нищей актрисе. С последними словами песни «Подайте милостыню ей!» и последними аккордами гитары Жюли не выдержала, зарыдала и обняла Веру Павловну.
– Милая девочка! Кабы вы знали, как милы мне! Пойдёмте в лес. Мне противна эта компания. Мне хочется полюбоваться чистой природой и вашей чистотой.
Они направились к берёзовой роще. Сторешников хотел присоединиться к ним, но Жюли сказала Сержу:
– Переведите этому болвану, что мы уговаривались наблюдать, куда ходят влюблённые пары, но смотреть, куда ходят после обеда дамы, уговора не было, чёрт возьми!
Серж захохотал.
– Вернись, Мишель! Твоё божество – человек, и ничто человеческое не чуждо ей.
Сторешников смутился и вернулся обратно. Вера Павловна покраснела.
– Простите, милочка, но с этими подлецами только так и можно разговаривать. О, как они подлы! Ведь вы в защиту своей родины спели мне Беранже. Я понимаю вас и знаю, что у вас это невозможно. Я знакома с Барсовой. Она с возрастом потеряла всё, как женщина и актриса. Она стала совсем не такой, как была, но, бог мой, как она счастлива в своей старости, окружённая молодыми талантами. Вы не потерпели, чтобы даже тень упала на честь вашей родины, а эти люди готовы продать всё: родину, честь совесть… Впрочем, продавать то, чего нет, невозможно. У них не ни чести, ни совести, остаётся продавать родину. О, они прекрасно знают, для чего я приставлена к ним нашим посольством.
Милое дитя, вы удивляетесь и смущаетесь, слушая меня, наблюдая мои поступки. Но я на своём месте, то есть в грязи. Но почему вы здесь? Гнусные люди! Я была два года уличной женщиной в Париже, я полгода жила в доме, где собирались воры, но они не были так низки. Они брали излишки у богачей, но не смели прикасаться к святыням. А у этих людей нет ничего святого, ни родины, ни идеи.
Боже мой, в каком обществе я вынуждена жить! За что такой позор мне, боже? Я слабая женщина! Голод я умела переносить, но в Париже так холодно зимой. Холод был так силён, обольщения так хитры. Я хотела жить и любить. Ведь это не грех, о боже, за что же ты так наказываешь меня. Вырви меня из этого круга, из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже, я не прошу у тебя ничего другого, но освободи меня от этих людей! Моя судьба разбита, но зачем вы здесь, милое дитя?
Вера Павловна рассказала о требованиях своей матери.
– Милое дитя моё, – сказала Жюли, – ваша мать очень плохая женщина. Она хочет продать свою дочь ради удовлетворения своих чувств. Ведь вы не любите Мишеля?
– Я ненавижу его.
– А знаете программу этого пикника? Её гвоздём поставлена ваша честь. Мишель держал пари, что он уединится с вами и докажет, что вы – его любовница. Мишель не остановится ни перед чем, он способен на любую подлость. Но вы не бойтесь его – он подлец. Слово «ляш» переводится у вас как трус и как подлец, но мы, французы, не делаем различия между этими понятиями и знаем, что если человек подлец, то он и трус. Я предупредила вас, и вы можете отомстить ему, унизить его, показать всё его ничтожество. Возьмите вот эту штучку.
И Жюли достала и дала Вере Павловне бельгийский браунинг.
– Но я не умею стрелять.
– Милое дитя, стрелять не придётся, он же «ляш». Остальное вам подскажет женское чутьё.
Когда Жюли и Вера Павловна вернулись к компании, здесь уже шёл деловой разговор о том, где и как надо «подмазать», «подбросить», «протолкнуть», «утрясти».
– Друзья, это наконец становится скучным. Вы портите пикник своими коммерчески-блатными разговорами. Неужели у вас, Михаил Иванович, нет других интересов в жизни, кроме как добывание и расходование денег?
Сторешников с недоумением посмотрел на Веру Павловну охмелевшими мутными глазами.
– Вам не нравится пикник или мои убеждения?
– Собственно, пикник и ваши убеждения – одно и то же: повышенный интерес к пище и другим жизненным благам. Чтобы устраивать такие пикники надо «утрясать», «подмазывать», «проталкивать». Разве нельзя жить по-другому?
– Можно, конечно, пожалуйста, – он протянул шляпу и пропел:
«Подайте милостыню ей!»
Все захохотали. Вера Павловна смутилась. Разве не донкихотство проповедовать этим людям принципы морали?
– Вера Павловна, ваша мать – умная женщина, но она не получила развития и должна довольствоваться малым. Ваша Матрёна довольствуется ещё меньшим. А я хочу жить эффектно! Пусть тот, кто получил малое развитие, или недостаточное, довольствуется малым, а я многое получил, а ещё больше возьму сам.
– А это не угрожает тюрьмой?
– Нет. Я возьму по заслугам. Сосед моего отца по даче Матвей Кирсанов три года провёл на войне, лишился ног и получил медаль «За отвагу». А мой отец заведовал полевым военторгом и имеет целую коллекцию орденов и медалей. Он их не сам себе выписал. Очевидно, люди учли, что эквивалент полезной деятельности полковника интендантской службы выше, чем эквивалент гвардии старшины Кирсанова. Кирсанов живёт в однокомнатном домике, а полковник в отставке занимает двухэтажный особняк, в который он перевёз всю обстановку из Папендорфа. Разве это не видят люди? А кто может осудить полковника интендантской службы? Никто!
Инвалид Кирсанов получает 50 рублей пенсии, а Сторешников – 250 рублей. Такова оценка общества, но я работаю расчётливо: если я сделал пользы на миллион, то никто не осудит, если я возьму копейку с рубля, а это 10 тысяч рублей. Эквивалент моей полезной деятельности выше этой копейки с рубля. Остальные 99 копеек я использовал с большим эффектом. Меня не осудят, а повысят, и я буду оперировать миллиардами. Ваша Матрёна тоже возьмёт копейку с рубля, но не прогоните же вы её за взятый гривенник? Честность – это расчёт и масштабы.
– Леди и джентльмены, это даже неприлично. Мы не знали, Мишель, что в программу пикника входит диспут на морально-этическую тему. Я бы не поехал. Да и дамам, очевидно, скучно. Мы совсем забыли о них.
– Месье, я предлагаю выпить за дам и прекраснейшую из них.
– Постой, Арнольд, а кто же в самом деле прекраснейшая?
– Безусловно, Жюли, – сказал Серж.
– Господа, это космополитизм! Вера Павловна способна защитить честь нации.
На перевод Сержа Жюли ответила смехом.
– Вера Павловна больше похожа на итальянку или испанку.
– Ты напрасно, думаешь, Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей. У вас много блондинок, но мы смесь племён: от беловолосых, как финны, до чёрных, гораздо чернее итальянцев. Это татары, монголы, скифы, печенеги. Все они дали много своей крови в нашу. У нас блондинка распространённый тип, но не господствующий…
– Ну, завели разговор о женщинах, это надолго, – сказал Сторешников. – Лучше пройдёмтесь, Вера Павловна, прогуляемся.
Сторешников предполагал, что Вера Павловна откажется от этого предложения и запасся убедительными доводами в защиту прогулки, но, сверх ожидания, Вера Павловна охотно согласилась.
– Только одну минуточку, я возьму жакет, в лесу ещё так сыро и прохладно.
Когда Михаил Иванович и Вера Павловна зашли в густые заросли орешника, Сторешников вдруг грубо схватил Веру Павловну за руку, резко повернул её лицом к себе и сжал в своих объятиях, в которых было много страсти, но уж во всяком случае не было нежности.
– Михаил Иванович, оставьте, я закричу.
– Это бесполезно, люди постараются не услышать твоего крика.
Вера Павловна ударила Сторешникова по щеке.
– Приёмы самбо мне известны, а дворянскими предрассудками я не страдаю. Пойми, что это неизбежно. Ещё ни одну я не выпустил из своих рук. Не кочевряжься, милашечка!
Сильным натиском он повали её на землю, но вдруг увидел направленное в переносицу дуло пистолета. Сторешников весь обмяк, на лбу у него выступили капельки пота.
– Вера Павловна, я пошутил, – пробормотал он.
– Знаю. Но я-то не шучу. Я пристрелю вас на глазах у всех, если вы чётко и громко не скажете: «Я не сделал то, что намеревался сделать». Если вы не исполните моего требования, я исполню своё обещание.
* * *
Вечером, когда вернулись с пикника, Вера Павловна ушла в свою комнату, сказав, что устала и не будет ужинать. Мария Алексеевна, проспавши до самого отъезда, была довольна, что дочь бесцеремонно командует Сторешниковым, а тот покорно выполняет все её требования. «Ну и молодец моя Верка! – думала Мария Алексеевна, удивлённая таким оборотом дела. – Гляди, как забрала мужика в руки. А я думала, много хлопот мне будет. Ну и хитра, нечего сказать!».
Верочка, оставшись у себя, разделась и убрала платье. Почувствовав необычную тяжесть в кармане жакета, она вынула браунинг и положила его в ящик трельяжа. Браунинг напомнил ей происшедшее. Как только у неё хватило сил на всё, если при одном воспоминании она ослабла и опустилась на стул!.. Так она просидела с полчаса. Потом через силу добралась до постели.
Едва Верочка легла, в комнату вошла Мария Алексеевна с подносом, на котором стояла большая отцовская чашка и лежала целая груда бисквитов.
– Кушай, Верочка на здоровье! Сама тебе принесла – видишь, как мать помнит о тебе. Сижу, да и думаю: как это Верочка легла спать без чая? Сама пью, а всё думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая!
Чай, наполовину разбавленный сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локти и стала пить. «Как вкусен чай, когда он свежий, густой, когда в нём много сахара. А мать-то по-настоящему любит меня. А может она… Может, она не знает, что у меня был пистолет и думает… Нет, она ничего не знает».
На другой день Верочка проснулась в десять часов и встревожилась, вспомнив, что вчера Жюли обещала заехать к ней в одиннадцать. Верочка поспешно привела в порядок комнату, оделась и заказала чай.
Жюли пришла точно в назначенное время. Она вошла бодрая, весёлая. Они обнялись, как старые подруги. В комнату Верочки был подан чай со сливками и свежим душистым печеньем. Жюли тоже любила чай со сливками и с удовольствие приняла угощение.
– Да, возьмите ваш пистолет. Я так боялась, что он выстрелит. Ведь я совсем не умею обращаться с оружием.
Жюли расхохоталась.
– Он не заряжен, но он славно сыграл свою роль! Ой, какая глупая физиономия была у Сторешникова… Но теперь можете не сомневаться, милое дитя, что он вам сделает предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда их волокитство терпит катастрофу. Знаете ли вы, что поступили с ним, как опытная кокетка? Говорю про настоящее кокетство, а не про бездарные подделки под хорошую вещь. Кокетство – это ум и такт в применении к делам женщины с мужчиной. Поэтому совершенно наивные девушки без намерения действуют, как опытные кокетки, если имеют ум и такт. Вы победили. Теперь вы вправе обдумать, какие выгоды можно извлечь из этой победы. Определить размер репараций, контрибуций аннексий и установить, если угодно, свой оккупационный режим.
– К чему мне всё это? С меня достаточно, что враг побеждён и обезврежен. Ведь вы вчера сами возмущались гадостью и подлостью этих людей.
– Милое дитя, это было сказано в увлечении. Это верно, но жизнь – проза и расчёт.
– Нет, нет, никогда! Он гадок! Это отвратительно! Я скорей брошусь из окна… Отдать жизнь такому низкому человеку – нет, лучше умереть!
Жюли стала объяснять выгоды:
– Вы избавитесь от преследований матери. Вам грозит опасность быть проданной. Он не зол, а только недалёк. Недалёкий и незлой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером. Вы будете госпожой в доме.
Она в ярких красках описывала положение французских актрис и танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви и господствуют над ними.
– Это самое лучшее положение в свете для женщины. Таково реальное положение вещей, а всякая фантазия только портит жизнь. Что же вам ещё?
– Вы считаете меня фантазёркой, спрашиваете, что я хочу от жизни? Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться. Не хочу ни обманывать, ни притворяться. Не хочу считаться с мнением других – делать то, что мне рекомендуют, если сама в этом не убеждена. Я не привыкла к богатству, мне самой оно не нужно – зачем же я стану искать его только потому, что другие думают, что оно всякому приятно и, стало быть, должно быть приятно мне. Я не была в обществе, не испытала того, что значит блистать, и у меня нет никакого влечения к этому – зачем же я буду жертвовать чем-нибудь для блестящего положения только потому, что по мнению других оно приятно? Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем – не только собой, даже маленьким капризом не пожертвую. Это не значит, что у меня нет желаний. О, я хочу многого и люблю многое: музыку, искусство, литературу, лес, цветы, запахи, но я не хочу этого только для себя. Ведь, насколько я понимаю, блистать в обществе – это значит вызывать зависть у окружающих…
Я хочу слушать музыку и нести её другим. Люблю балет и хочу в совершенстве передать его другим. Люблю поэзию и хочу, чтобы хотя бы одну мою песенку, пусть самую незамысловатую, пели бы детишки, как они поют:
Мы едем, едем, едем
в далёкие края…
Многие поколения поют эту песенку. Пусть автор состарится, умрёт, а его песенку будут петь малыши и улыбаться. Им нет дела до Маршака, Барто, Пахмутовой, Чуковского. Они даже не знают об их существовании. Но знают Дядю Стёпу, Крокодила, Мойдодыра, Бармалея, Айболита, Человека Рассеянного. Мне хочется написать, если не «Овода», то какую-нибудь «Тётю Мотю», которую дети любили бы не меньше Дяди Стёпы. Мне хочется создать свой балет, который стал бы классическим для детей детского сада. Мне хочется создать оперу, которую исполняли бы дошкольники. Любя цветы, я хочу, чтобы они были у всех. Мне хочется вырастить чудесную орхидею небывалой красоты и аромата, но не уникальную, а чтобы она была у всех.
Хочу ли я любить мужчину? Не знаю, но наверное я полюблю так, что буду отдавать ему всё, чтобы получить от него всё лучшее; когда он станет моим «я» и заслонит собою моё личное «я». Но не для того, чтобы он обладал мной, чтобы я выполняла его прихоти, а чтобы подчинённость и прихоти у нас были общие, и то, что я не в силах дать людям одна, мы делали бы это оба. Я хочу делать только то, что хочу и в чём я убеждена, что это делает приятное мне и всем; и пусть другие делают так же, но не по принуждению, а по убеждению. Я не хочу стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна.
Жюли слушала и задумывалась, задумывалась, краснела и не могла не вспыхнуть, когда подле был огонь. Она вскочила и прерывающимся голосом заговорила:
– Так, дитя моё, так! Я сама бы так чувствовала, если бы я не была развращена. Не тем я развращена, за что женщину называют погибшей, не тем, что было со мной, что я терпела, от чего я страдала, не тем развращена, что тело моё было предано поруганию, а тем, что привыкла к роскоши, к праздности, не в силах жить сама собою. Нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, что не хочу, – ведь это разврат?! Не слушай того, что я тебе говорила, дитя моё. Я развращаю тебя – вот мучение! Я не могу прикасаться к чистому, не оскверняя. Беги, дитя моё, я гадкая женщина. Не думай о богатстве, власти, праздности, роскоши, всё это гадко. Там нет чистоты – беги, беги! Ты пробудила во мне детство. Я помню, как мой старый дед-коммунар шептал с благоговением: «Свобода, Равенство, Братство». Он сражался на баррикадах. Вы воплощаете это в жизнь.
* * *
На следующее утро после пикника Сторешников проснулся успокоенным. Он с аппетитом позавтракал, выпил две рюмки коньяку «для поднятия жизненного тонуса» и отправился на службу. Вчерашнее событие казалось забавным анекдотом, он улыбался и успокаивал себя: «Ну что ж, не догнал, так хоть погрелся». Но это была нарочитая бодрость, и она быстро исчезла. Придумав предлог, он исчез с работы и вернулся домой, где погрузился в тяжёлое раздумье.
Сторешников был не так уж плох. Он презирал женщин, потому что судьба его сталкивала с теми женщинами, которые вызывали презрение. Он имел их много и был убеждён, что знает вообще всех женщин.
Он стремился обладать всем редкостным, что вызывало бы интерес, а проще сказать зависть всех окружающих. Он ничего не понимал в живописи, но приобрёл несколько полотен, потому что это были Тициан, Бёклин, Кранах. Серванты в его квартире не вмещали неудобную и громоздкую посуду, потому что это был севрский и саксонский фарфор. Стены были увешаны гобеленами, а полки шкафов уставлены книгами в шикарных переплётах. Автомашину он приобрёл себе «Хорх», потому что в Москве таких машин почти не было. Впрочем, не было и запасных частей.
Он носил оригинальную цигейковую куртку, какие во время войны присылались из Канады вместе с автомашинами. Пушистый мех, оригинальный покрой со множеством застёжек-молний вызывали зависть окружающих. Эта куртка стала однажды причиной забавного недоразумения. Когда Сторешников подъехал на своём «Хорхе» к ресторану «Отель Савой», к нему подошёл солидный американец, хлопнул его по плечу, сунул в руку несколько долларов и бесцеремонно влез в машину. Сторешников представился ему как майор Советской армии, но американец раздражённо спросил:
– Так ради чего вы носите униформу шофёра такси?
Сторешников уже привык мечтать, как он будет обладать Верочкой. Если картины, о которых он мечтал, не осуществились она не осуществила в ранге любовницы, пусть осуществит их в качестве жены. Тем более, что её красота, развитие и характер не только не помешают служебному продвижению, но могут помочь ему. Такая жена будет вызывать зависть мужчин, распалив кого угодно, но… И Сторешников уже заранее смеялся над тем, кто увидит дуло пистолета, направленного в переносицу.
Дело, конечно, не в этом. Сторешников не был поклонником домостроя, женской (а тем более мужской) верности. Наоборот, обаяние жены можно использовать как средство для достижения своей цели. Важно, что с такой женой можно показаться в любом обществе и вызвать зависть окружающих – вот жизненный принцип обладателя.
О грязь! «Обладать» – кто смеет обладать человеком? Обладать, как халатом или туфлями… Это вопрос ставили перед собой передовые люди ещё в девятнадцатом веке, испытывая острое возмущение. Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сёстры. Опять пустяки: каие вы нам сёстры? – вы наши служанки. Иные из вас как будто господствуют над нами – это ничего: ведь многие секретари, угождая своим патронам, фактически руководят делами, но всё же они – секретари.
Нет, мы продолжаем обладать женщинами и унижать их. Для этого мы настойчиво напоминаем им, что они женщины, слабые существа. Даже в том случае, если женщина в интеллектуальном и физическом развитии превосходит мужчину. Ей, как существу слабому, неполноценному, оказывая подчёркнутое внимание, мы указываем её удел: дети, моды, домоводство – вот среда слабого существа. Женщине достаётся не власть матриархата, а снисходительность господина.
Сладострастие и похоть Сторешникова разыгрались с особой силой, когда объект стал недоступным. да и самолюбие было раздражено. Но как восстановить возможность ухаживания? Показаться Вере Павловне на глаза было невозможно – оскорбление было слишком сильным. Надо искать союзников, которые повлияли бы на Веру Павловну. Да что их искать, они есть.
Сторешников в тот же вечер к концу смены Марии Алексеевны приехал в ресторан и пригласил её поужинать вместе. Мария Алексеевна с удовольствием приняла приглашение и победоносно поглядела на сослуживцев. «Посмотрите-ка, – говорил этот взгляд, – я не такая, как все, вот у меня какое знакомство».
Не затягивая разговор, Сторешников высказал своё предложение руки и сердца Вере Павловне. Это совершенно ошеломила Марию Алексеевну – уж учень всё шло как по маслу в том направлении, которое намечала она сама. Однако она сдержала свою радость и сдержанно сказала, что со своей стороны считает это за большую честь, но должна как любящая мать узнать мнение дочери. Сторешников нашёл это разумным и делающим честь матери, но указал, что может понадобиться и её влияние на дочь. Он просил учесть серьёзность своего намерения и желание устроить счастливую жизнь Вере Павловне. Она ещё так молода и могла увлечься кем-нибудь (ведь окружение в институте такое ненадёжное – может прельститься каким-нибудь пустозвоном и погубить свою судьбу). Намекнул и на то, что, может быть, некоторые его поступки могли вызвать у Веры Павловны неодобрительную оценку: она могла не понять, что страстная любовь не гарантирует от опрометчивых поступков.
«Молодец Верка. Видно обжёгся соколик, ну да такого крепче можно в руки взять!» – подумала Мария Алексеевна, а вслух сказала:
– Пожалуйте к нам завтра в восьмом часу, там и обсудим дело, а мы с Павлом Константиновичем будем на вашей стороне, будьте уверены.
* * *
– Ну и молодец у меня Верка, – говорила мужу Мария Алексеевна, – гляди-ка, как забрала молодца в руки: шёлковый. Видно, конфуз потерпел в лёгкой-то победе.
– Господь умудряет младенца, – произнёс Павел Константинович.
Он редко играл решающую роль в домашней жизни. Но Мария Алексеевна была строгая хранительница древних обычаев, и в таком парадном случае назначила мужу почётную роль, которая принадлежала главе семейства и владыке. Они уселись на диван как на торжественном месте и послали Матрёну просить пожаловать Веру Павловну к ним.
– Вера, – начал Павел Константинович, – Михаил Петрович делает нам честь просить твоей руки. Мы ответили, что принуждать тебя не будем, но что со своей стороны рады. Ты, как добрая дочь, какой мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, а мы не смели и мечтать о таком заманчивом предложении. Жизнь для тебя с Михаилом Ивановичем будет широко открыта, и ты будешь иметь такое положение, о котором редкие могут мечтать. Согласна ли ты, Вера?
– Нет, – сказал Верочка.
– Что ты говоришь, Вера? – закричал Павел Константинович.
– Ты с ума сошла, дура? – посмей только повторить, ослушница! – закричала Мария Алексеевна, поднимаясь с кулаками на дочь.
– Мама, – сказала Верочка, вставая, – если вы до меня дотронетесь, я уйду из дома. Запрёте – подниму крик и вызову милицию. Я знала, как вы примете мой отказ, и обдумала, что мне делать. Сядьте и сидите, или я уйду.
Мария Алексеевна опять уселась. «Уйдёт ведь бешеная», – подумала она.
– Я не пойду за него.
– Вера, ты с ума сошла, – повторяла Мария Алексеевна задыхающимся голосом.
– Как же это можно? Что же мы скажем завтра? – говорил отец.
Часа два продолжалась эта сцена. Мария Алексеевна бесилась, сжимала кулаки, но Верочка говорила:
– Не вставайте, или я уйду.
Кончилось тем, что вошла Матрёна и спросила, подавать лм ужин – пирог уже перестоялся.
Пошли ужинать. Ужинали молча.
На другой день вечером, придя с работы, Павел Константинович угрюмо сказал жене:
– Звонил Михаил Иванович.
– И ты сказал?
– А что же мне оставалось делать?
– Дурак ты, дурак! Надо ещё поговорить с Веркой, припугнуть её, а ты – на, отрубил…
Долго ещё продолжался этот урок и конца ему не было видно, но вдруг раздался звонок.
Мария Алексеевна открыла дверь и увидела Сторешникова.
– Где Вера Павловна? Мне нужно видеть её сейчас же. Неужели она отказывает?
Обстоятельства были так трудны, что Мария Алексеевна только махнула рукой.
* * *
– Вера Павловна, вы отказываете мне?
– Судите сами, могу ли я не отказать вам?
– Вера Павловна, я жестоко оскорбил вас. Я виноват и достоин презрения, но я не могу перенести вашего отказа. Мой поступок был совершён в ослеплении страстью и любовью к вам… – и так далее, и так далее.
Верочка слушала его несколько минут. Наконец решила прекратить, так это было тяжело и противно.
– Нет, Михаил Иванович, довольно, перестаньте. Я не могу согласиться.
– Может быть, на моём пути стоит счастливый соперник? Кто-нибудь из этих стиляг-пижонов вскружил вам голову воздушными замками будущего блаженства?
– Соперника вообще нет, а эти стиляги внушают мне отвращение. Они – неоперившиеся хищники. По сравнению с ними вы даже внушаете уважение. Ваш цинизм имеет мощную форму, а у них – голенькое тельце, нелепые культяпки вместо крыльев, огромные рты и животики. Они ещё не способны выискивать и терзать добычу. Они гаже вас в своём бессилии. Мне их порой даже жалко. У них нет и воздушных замков. Долго им ещё оперяться и приспосабливаться. Они буду сдерживать аппетит и подлость, так как у них нет сильной руки, которая помогла бы им быстро пройти путь приспособленчества. Пожалуй, из них не выйдет вообще смелых хищников.
Сторешников не замечал яда этих слов. Его успокаивало отсутствие соперника.
– Я прошу у вас одной пощады: вы теперь ещё слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас… Не давайте теперь мне ответа, оставьте мне время заслужить ваше прощение. Я кажусь вам низким, подлым, но посмотрите, быть может я исправлюсь. Я употреблю все силы на то, чтобы исправиться. Помогите мне, не отталкивайте меня теперь. Дайте мне время, я буду во всём слушаться вас! Быть может, вы увидите во мне что-нибудь хорошее. Дайте мне время.
– Мне жаль вас, – сказала Верочка. – Я вижу искренность (Верочка, это вовсе не любовь, это смесь разной гадости с разной дрянью, – любовь не то; не всякий тот любит женщину, кому неприятно получить от неё отказ; но Верочка ещё не знает этого и растрогана). Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа, – извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не приведёт: я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.
– Заслужу, заслужу другой ответ, вы спасаете меня!
Он схватил её руку и стал целовать.
Мария Алексеевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей, но Сторешников разбил половину её радости, объяснив ей, что Вера Павловна хотя и не согласилась, но и не отказалась, а отложила ответ. Плохо, но всё-таки хорошо, сравнительно с тем, что было.
Мария Алексеевна решительно не знала, что и думать о Верочке. Дочь как будто говорила и поступала против материнских намерений, но выходило, что достигала большего, чем предполагала мать. Что она медлит с ответом, это понятно: хочет совершенно вышколить жениха – так, чтобы он без неё и дохнуть не смел. Очевидно, она хитрее самой Марии Алексеевны.
А как же быть, если это не так, если дочь действительно не хочет идти замуж за Сторешникова?.. По всей вероятности, негодная Верка не хочет выходить замуж – здравый смысл был слишком силён в Марии Александровне, чтобы обольщаться своими раздумьями о дочери как хитрой интриганке. Но эта девчонка устраивала всё так, что если выйдет (о чёрт её знает, что у неё на уме, может быть и это), то действительно уже будет полной госпожой над мужем.
Что ж, остаётся ждать. Ждать и смотреть – больше ничего нельзя. Теперь Верка не хочет, а попривыкнет, войдёт во вкус распоряжаться мужем… Только бы никакой вертопрах голову ей не вскружил. Надо усилить военную блокаду.
Шло время. Сторешников каждую неделю приносил угощения, но не смел отдавать Верочке, а передавал Марии Алексеевне. Иногда он ходил с Верой в театр, но Вера Павловна не разрешала никакого шика: пломбир, стакан лимонада, пирожное, о ресторанах не позволяла и заикаться.
Без Михаила Ивановича Верочка почти никуда не ходила, и её оставили в покое. Родители с надеждой смотрели ей в глаза. Эта собачья угодливость была ей гадка, она старалась как можно меньше быть с матерью. Мать перестала осмеливаться входит в её комнату, и когда Верочка сидела там, то есть почти круглый день, её не тревожили.