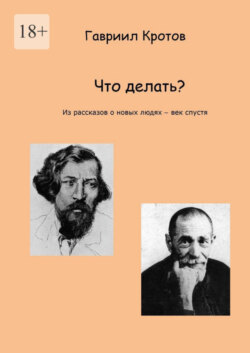Читать книгу Что делать? Из рассказов о новых людях – век спустя - Гавриил Яковлевич Кротов - Страница 13
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Александр Матвеевич Кирсанов
ОглавлениеВ Москву Лопухов вернулся зимой и поселился в Купавне у своего друга Кирсанова. Ты уже догадался, проницательный читатель, что он не последняя спица в колеснице нашего романа, и надобно рассказать о нём обстоятельно.
Отец Александра Матвеевича – бывший танкист. А ещё ранее – бывший столяр-краснодеревщик и моделист, бывший баянист-весельчак, бывший красавец с копною густых русых волос. Но всё это в прошлом. В настоящем – это инвалид без обеих ног, с вытекшим левым глазом и огромным шрамом на лице, который шёл вкось от левой брови через нос, губы и подбородок. Этот шрам уродовал лицо. Для передвижения ему дали трёхколёсный гибрид мотоцикла с автомобилем, для существования дали пенсию – 50 рублей, за боевые заслуги дали медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. В настоящем – это алкоголик, которого часто шофёры вытаскивают из кювета вместе с его драндулетом.
Мать работает нянечкой в детском саду. Она – красавица, когда улыбается или смеётся, но лицо её делается неприятным, когда оно искажено злобой на пропойцу-мужа, который сломал замок у сундука и пропил новое крепдешиновое платье. Когда муж возвращается домой пьяный, дело доходит до драки, до диких, омерзительных сцен: она бьёт его по щекам, а он рвёт на ней одежду. Но крик появляются соседи и стараются успокоить Матвея. Это удаётся с трудом и не всегда с гарантией на прочность. Легче всех его успокаивал сосед: полковник в отставке Сторешников. Он заходил и говорил твёрдым голосом:
– Гвардии старшина Кирсанов, смирно!
Матвей замирал.
– Отставить боевые действия! Спать! Выполняйте указания! Утром зайти доложить и похмелиться.
– Слушаюсь, товарищ полковник!
Утром, в перерыве между выпивками, Матвей просил жену:
– Зиночка, уйди ты от меня. Оставь меня.
– А на кого я тебя, дурака, брошу? Погибнешь.
– Умру, но спокойно, а так я и сам покоя не имею, и тебе жизни не дам. Пойми, что я тронутый человек. Я ведь могу тебя ненароком зашибить.
– А ты не будь дураком-то. Брось дурить.
– Эх, Зинушка, походила бы ты в обнимку со смертью, поцеловалась бы с ней взасос, посмотрел бы я, сколько в тебе осталось бы.
– Да ведь другие…
– Что мне другие. Может они, имея ноги, мало ими пользуются. А ведь те ноги, которые у меня отрезали, как плясать-то умели. Другие хоть лицо сохранили, а моё… Ведь вижу я, что ты из жалости меня любишь, а каково мне это милостыню принимать.
– Глупенький, не то страшно, что тебе тело изуродовали, – душу ты свою уродуешь, а ведь она красивей лица твоего была, веселее плясок. Сбереги ты душу для меня, Мотя, и для сынишки.
Иногда после таких бесед наступало затишье, которое длилось несколько дней и даже недель, но Матвей вдруг замечал косой взгляд жены (который вовсе и не был таким), садился в свой драндулет и исчезал. А появлялся уже для новых ссор.
Когда подрос сын, то есть когда ему исполнилось пять лет, Матвей как будто бы остепенился и всю душу отдал ребёнку: рассказывал ему сказки, пел фронтовые песни, читал ему детские книги, только про войну ничего не говорил. Если сын настаивал, у Матвея начинало дёргаться лицо, и он передавал сына матери.
Но однажды отца прорвало:
– Война, сынок, это зло, страшное дело. Когда отрывают руки, ноги, кромсают тело, жгут его огнём. Разве можно об этом рассказывать или слушать спокойно? Но это ещё не самое страшное. Страшное начинается потом продолжается всю жизнь. Сильного, смелого, бодрого человека начинают жалеть. Жалеют самые слабые: старики, женщины, дети. Как это тяжело! Душой ты чувствуешь, что ты всё тот же Матвей Кирсанов, и мог бы помочь старикам и слабым… Оказывается, ты Федот, да не тот. Чувствуешь себя художником, потерявшим зрение, кузнецом без рук. И тебя жалеют. Жалеют без смысла.
Однажды был такой случай: сижу я около Усачёвского рынка на своём драндулете. День жаркий. Заехал я в тень, вынул ноги и положил фуражку на капот. Какая-то старушка остановилась, порылась в сумочке и положила мне в фуражку рублёвку. Я окликнул её и хотел вернуть рубль, сказать, что при получке избегал брать эти жёлтенькие бумажки, уж больно от них карманы распирало, да вспомнил, что всё это в прошлом, и говорю нарочно нахальным тоном: «А кружка пива стоит два двадцать!..». Что же ты думаешь? Порылась она опять в сумочке и достаёт рубль двадцать. Вот она жалость-то: пей, дескать, всё равно ты человек пропащий. Может, она и права.
Обидно, конечно, но хуже, когда начнут попрекать тем, что пьёшь, а о тебе заботятся: пенсию платят, драндулет дали. А сколько бы я этих пенсий заработать мог!.. А кто говорит? Тот, кто тяжелее своего живота да портфеля ничего и не носил. Ему, бедному, драндулет не дали, и вынужден он в своей «Победе» ездить. «Победа» – слово-то какое! А кому она досталась?..
Умно человек рассуждает. Не потерял ума. А где ему было его терять? Земля не горела под ним, как под Ельней, вода не пылала, как под Сталинградом, не кипели фонтаны взрывов авиабомб, как под Орлом. Для него это просто география: Днепр, Корсунь, Неман, а для меня это рубцы на теле, куски живого мяса. У меня за войну три танка сгорело, два раза тонул, утопал в болоте, выходил из окружения. А к чему всё это? Чтобы переносить жалость и упрёки? Вот что самое страшное!..
Может быть, этот путаный рассказ и не был понятен ребёнку, но он почувствовал страдание изуродованного человека.
Чаще всего Матвей забывал обо всём на свете около сына и жил ощущением их взаимной дружбы. Иногда Матвей превращался в настоящего артиста, читая на разные голоса «Телефон» Чуковского – и каждый раз сын заново заливался смехом при жалобных просьбах цапель, объевшихся лягушками, или над бесцеремонными просьбами мартышек.
Читая Маяковского «Кем быть?», Матвей задумался и серьёзно спросил сына:
– Ну, а ты, книгу переворошив, кем хотел бы стать?
– Строителем! Поднимать балки, словно палки, перевозить кирпичи, закалённые в печи, и пострить огромный дом на все четыре стороны.
– Хорошее дело! Только в этот просторный дом столько дряни налезет, что и не рад будешь. Нет, сынок, ты бы лучше врачом стал. Не потому что «как живёте, как животик?». Животик – ерунда, пропукается. Надо бы такую медицину звести, чтобы она вместе с телом душу лечила. Оттяпают тебе ноги, ничего не скажешь – чисто сработано, загноений нет. Выписывай! А если душа загноилась, тут никакой антисептики не полагается, пусть её милиция проводит.
Иногда Саша не уходил в детский сад, и они целыми днями делали самолётики и парашюты из бумаги, стоили плотины и ставили мельницы или электростанции. Потом отец учил сына управлять автомобилем; потом занялись изучением мотора, и матвей надолго остался без ног; потом они ездили в МТС, где изучали трактор и даже упражнялись в вождении.
Научил он Сашу играть на аккордеоне. У Матвея был великолепный аккордеон – подарок танкистов. Сам он играл артистически и многому научил Сашу. Саша любил эти музыкальные семейные вечера. Матвей играл только для души, отказываясь от приглашений на вечера и на свадьбы. Только ногда он играл для детского сада – и то ради того, что в выступлениях участвовал его сын.
Приучив сына к музыке и научив его играть, он строго предупредил:
– Не унижай музыку платой в угоду людскому пьянству. На банкет, на свадьбу всегда пригласят, и, конечно, первая рюмка музыканту, а проглотил её и убил чувство. А людям оно и не нужно. Так перепьются, что вальса от польки не отличат. Сколько раз люди танцевали, когда я играл похоронный марш Бетховена. Музыка только тогда хороша, когда в ней чистая человеческая душа живёт.
Стоит ли говорить, что сын привязался, не замечал его уродства и не боялся, когда отец приходил пьяным. Впрочем, последняя выпивка была давно. Когда отец пришёл домой пьяным и, прислонившись к косяку, принял вызывающую позу, сын подбежал к отцу и спросил:
– Папа, ты не будешь драться?
– Я?.. Драться?.. Зинушка, помоги мне добраться до кровати.
Весной и летом отец и сын работали на огороде. Матвей из старых культиваторов сделал плуг собственной конструкции, прицепил к своему драндулету и вспахал огород. Потом снял протезы и передвигался, опираясь руками на дощечки. В такие дни Саша не ходил в детский сад.
– Эта работа для нас с тобой – нагибаться не надо, спина не устанет.
В образцовом порядке по шнуру и доске разбивали грядки. Семена не высевали, а высаживали. Даже семена моркови сначала наклеивали на бумажные полоски, которые зарывали в землю.
Огород имел скорее эстетическое, чем хозяйственное значение. Картошку и свёклу они не сажали совсем, потому что это не едят сырым. Но зато много было моркови, редиски, огурцов, помидор, репы, брюквы, гороха, бобов. Отец явно учитывал не экономический эффект, а вкусы ребёнка, желая доставить сыну радость и не думая о доходе и выгоде. Зато маленький Саша на огороде увидел извечное чудо – превращение маленького зёрнышка мака сперва в красивый цветок, потом во вкусную молочную жвачку. А вместе с тем узнал и некоторые особенности каждой культуры и испытал чувство работника, создающего новое, прекрасное и вкусное.
На другой год круг интересов расширился: отец приобрёл десяток цыплят разного оперения, утят, гусят, кроликов и даже двух ягнят, а по просьбе жены приобрели и серьёзное хозяйство: поросят и породистую тёлочку на племя. Здесь понадобились уход, заготовка кормов и целый комплекс любви.
Кажется, теперь жизнь Матвея совсем наладилась, но когда Саша пошёл в школу и с восторгом рассказывал отцу обо всём, что было там интересного, Матвей вдруг почувствовал такую ревность, какую мог заглушить только пьянством. Матвей всё чаще сидел мрачный, хмурый – и вдруг однажды исчез!.. Именно исчез, а не умер.
Саша при всей любви к отцу не испытал чувства утраты. Ему просто казалось, что отец вот-вот должен вернуться. Но вот Саша перешёл уже в пятый класс, а об отце не было слышно.
Вскоре на свободном участке рядом с Кирсановыми построил себе дом инженер-энергетик Павел Иванович Мерцалов. Саша и Павел Иванович быстро подружились, и в этой дружбе между тринадцатилетним мальчиком и тридцатилетним мужчиной не чувствовалось разницы в годах, не выпирало чувство превосходства в развитии и даже в материальной обеспеченности.
Дом Мерцаловых имел три комнаты и веранду. Оборудованье и обстановка в доме были так продуманы, что вещи не загромождали помещения. Словно давая простор людям, они, как покорные слуги, готовые явиться по первому знаку господина, робко жались к стенам и даже умудрялись прятаться в них. Механизация ещё больше увеличивала удобства. В доме было паровое отопление, водопровод, газовая плита, душ и ванная.
Многое ошеломляло в доме Мерцаловых. Однажды Саша принёс молоко, заказанное Мерцаловыми, и нажал кнопку звонка – и вдруг услышал чёткий голос Павла Ивановича: «Я буду дома в двенадцать часов. Если вам что-нибудь нужно, оставьте записку. Если вы принесли продукты, оставьте их в шкафу на веранде. Прошу снова нажать кнопку».
Охотно отозвался Саша на просьбу Павла Ивановича поделиться с ним семенами и корневищами цветов. А главное – опытом выращивания цветов и огородных культур. Саша рассказывал подробности. Мерцалова интересовало количество и качество огородных культур, что и сколько они снимали в огороде.
– Мы с папой не учитывали, а ели сколько хотели.
– Запас на зиму не делали?
– Ну так нет.
– Так не интересно. Не подумай, что меня жадность обуяла, а просто у нас с Верой Ивановной такой девиз, – он указал на стену, где под портретом сухощавого старика с умным лицом висела каллиграфическая надпись «Или отлично, или ничего». В углу портрета была подпись, сделанная размашистым почерком.
– Кто это? – спросил Саша. – Ваш отец?
– Нет, больше. Это мой учитель, мой судья, мой друг – Томас Альва Эдисон… Ты не знаешь, кто такой Эдисон?..
И стал подробно рассказывать о великом изобретателе.
О жизни Павла Ивановича надо писать целую книгу, но мы ограничимся лишь упоминанием о его преклонении перед гением Эдисона и о высокой квалификации Мерцалова в инженерной энергетике.
Постепенно Саша стал в доме Мерцаловых своим человеком. В его распоряжении была обширная библиотека, а также письменный стол для занятий, ключи от квартиры и мастерской. За столом для Саши накрывали прибор, и если он опаздывал, то его слегка журили. Даже одежду Павел Иванович приобретал для Саши одновременно со своей. Если он заказывал костюм, то и для мальчика тоже, и на примерку ехали оба. Если покупал комбинезон, то приобретал и Саше.
Павел Иванович внимательно следил за учением Саши, часто посещал школу и советовался с учителями. По вечерам много рассказывал ему по материалу, пройденному в школе, давал пояснения к прочитанному, рассказывал много нового и интересного, что не входило в школьную программу.