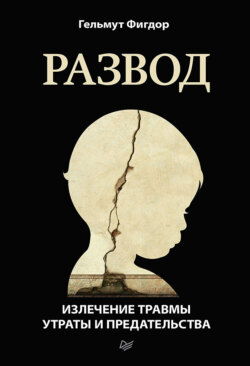Читать книгу Развод. Излечение травмы утраты и предательства - Гельмут Фигдор - Страница 3
Часть I. Oedipus ex[3] – расставание и развод с точки зрения ребенка и его развития
Введение
ОглавлениеПережившие время произведения культуры в значительной степени привлекательны тем, что в них находят свое символическое выражение присущие многим людям паттерны переживаний и проявления психики. Это наиболее актуально в отношении литературных произведений, оперы, так называемых культовых фильмов и (в особенности) сказок и хороших детских книг[4]. Внешне богатство психических символов проявляется в том, что такие произведения можно (и нужно) пересматривать, переслушивать или перечитывать. Наша жизнь изменчива: люди, цели, задачи и потребности приходят и уходят; однако такие произведения в символической и языковой форме отражают то, что нами движет – более или менее неосознанно – по ту сторону повседневности, т. е. за видимой стороной нашей жизни. В этих историях мы можем отдаться подобным проявлениям и пережить символическое удовлетворение, некий катарсис.
Триангулированные объектные отношения[5]
Таким основанным на синтезе искусств художественным феноменом с невероятной силой символизации является древнегреческая мифология и связанная с ней античная трагедия. Неудивительно, что Зигмунд Фрейд позаимствовал основную часть своей психологии бессознательного именно из нее, а конкретнее – из сюжета об Эдипе. В нем находят отражение почти все эмоционально значимые моменты в жизни человека:
♦ соперничество между мужчинами (отцом и сыном);
♦ амбивалентность любви и ненависти (Иокаста и Лай любят своего сына и избавляются от него; они хотят убить его, но все же организуют его спасение; Эдип любит Иокасту и ненавидит ее…);
♦ конфликт между влечением и моралью (любовь матери к сыну, противопоставленная табу на инцест);
♦ проблема идентичности («Кто я? Кто мои родители?»);
♦ напряженность между приемными и биологическими родителями, одновременно являющаяся метафорой напряженности между внешним и внутренним, осознанными и неосознанными отношениями;
♦ и роковая власть бессознательных страстей (оракула) над нашей сознательной жизнью.
Конечно, Фрейд вывел эти особенности психики не из интерпретации сюжета об Эдипе, а из опыта работы со своими пациентами (и самоанализа), благодаря которым ему открылась особая динамика, присущая треугольнику «отец – мать – ребенок», а также ее актуальность на протяжении всей жизни (т. е. Эдип – это не «образец» психоаналитической теории, а лишь метафора: часто их путают).
Но триада «отец – мать – ребенок» является лишь первой (и, кроме того, зависящей от культуры) формой целого ряда треугольников отношений, определяющих социальные рамки эмоциональной жизни человека:
♦ отец – мать – ребенок;
♦ родители – дети – воспитатели/учителя/прочие взрослые;
♦ родители – ребенок – другие дети;
♦ родители – дети/подростки – друзья/партнеры;
♦ муж – жена – родители;
♦ мужчина – женщина – профессия;
♦ мужчина – женщина – соперник (соперница);
♦ мужчина – женщина – ребенок;
♦ родители – ребенок – общество;
♦ индивидуум – семья/группа – внешний враг/посторонний человек.
Если рассматривать эти констелляции отношений исключительно с внешней стороны – например, с точки зрения социальной роли, – то акцент на структуре треугольника может показаться произвольной абстракцией, потому что с таким же успехом можно построить квадраты или пятиугольники. Однако не в случае, когда речь идет о психических репрезентациях, т. е. о внутренних образах этих разветвленных («объектных») отношений: интрапсихически «триангуляция объектных отношений» или, другими словами, треугольник как интериоризованный паттерн отношений, является «структурной» предпосылкой для усвоения индивидуумом – то и дело конфликтной – сложности социальных отношений. Любые удовлетворительные, стимулирующие, т. е. не подавляющие субъекта и допускающие автономию отношения предполагают следующее:
♦ существование диады[6], обеспечивающей чувство защищенности;
♦ способность поддерживать эмоциональные отношения более чем с одним человеком («объектом») одновременно, даже если субъект в настоящее время имеет отношения только с одним из объектов;
♦ способность переносить (временное) исключение из треугольника, т. е. вместо главного становиться (исключенным) «третьим», не теряя эмоционального контакта с объектами и особенно чувства надежной привязанности к диадическому объекту;
♦ и наконец, следует отметить, что любые объектные отношения, в свою очередь, интегрированы в один или несколько треугольников объектных отношений и получают особое значение через включение соответствующего «третьего», это означает, что в итоге субъект также определяет себя в треугольнике. Например, я определяю себя в триаде «я – ребенок – жена» иначе, чем в триаде «я – семья – начальник». Такое триадное самоопределение является в том числе предпосылкой для умения соответствующим образом вести себя в рамках различных социальных ролей.
Важность триангулированных объектных отношений для психического развития
В нашей культуре первый треугольник объектных отношений построен на расширенной, за счет включения отца, диаде «ребенок – мать». Он облегчает ребенку разрыв ранних «симбиотических отношений» с матерью, восприятие и выражение агрессии, переживание или преодоление страха разлуки и возмездия, выдерживание амбивалентности, различение собственных и чужих эмоций и фантазий, а также конкуренцию; дает защиту от пугающей близости; компенсирует недостатки в отношении к тому или иному объекту; способствует формированию гендерной идентичности; облегчает овладение эмоциями (прежде всего разрушительными) и поддержание баланса между регрессивными и прогрессивными тенденциями; повышает уверенность в себе и шансах на собственное развитие.
Однако речь при этом идет не только о приобретении безопасности и автономии в «эдипальных» отношениях нуклеарной семьи, а о том, что каждый из этих этапов развития также облегчает ребенку завоевание новых объектов – например, воспитателей, учителей, друзей и т. д. Точно так же, как отец в качестве «другого» изначально противопоставлялся объектным отношениям с матерью, это положение «другого», «третьего» теперь занято новыми объектами по отношению к объектным отношениям с родителями[7].
Нуклеарная семья против новых форм семьи
Триангуляция понималась здесь как интрапсихический процесс. Само собой разумеется, что для нее требуется наличие соответствующих внешних отношений. При отсутствии отца (в семьях с одним родителем) или его потере по причине смерти, расставания или развода процесс внутренней триангуляции также не может иметь место или затрудняется, нарушается или откладывается, что может привести к задержкам развития, трудностям социальной адаптации и патологиям.
Если триаде «мать – отец – ребенок» приписывается столь решающее значение для психического развития, а также с учетом негативных долгосрочных последствий расставания родителей, возникает вопрос о долгосрочных последствиях: означает ли это, что с точки зрения нормального психического развития детей нуклеарная семья (а точнее, ее сохранение) должна считаться бесспорно лучшей в сравнении с расставанием (разводом) или альтернативными формами семьи?
Если бы такой вывод оказался верным, он повлиял бы не только на социальную оценку развода и расставания. Тогда любые усилия специалистов по оказанию помощи детям расстающихся родителей должны были бы сводиться к максимально возможной минимизации ущерба, а пострадавшие дети подвергались бы социальной стигматизации: расставание родителей являлось бы эквивалентом явного психического нарушения.
* * *
В главе 1 рассматривается значение триады для психического развития и освещается сложная функция отца как «третьего» объекта.
В главе 2 поднимается вопрос о том, что означает для детей нарушение внешних рамок треугольных объектных отношений, т. е. триады «мать – отец – ребенок». Среди прочего, в этой главе я пытаюсь показать, что было бы научно-теоретической ошибкой пытаться вывести из значения триады для психического развития безусловное преимущество нуклеарной семьи; но что – при всем уважении к альтернативным формам семьи – также было бы опасно пренебрегать важностью первичной триады.
В главе 3 я в виде тезисов излагаю то, каким должен быть «успешный» развод или расставание родителей, чтобы, несмотря на него, гарантировать детям оптимальные возможности развития. Мои «Восемнадцать рекомендаций и советов» задуманы как своего рода программа для специалистов, чтобы те, с учетом поручений суда, родителей или других лиц, не упускали из виду то, что на самом деле нужно детям, чтобы в достаточной мере справиться с семейным кризисом. Вторая часть этой главы называется «Почему родителям иногда так сложно следовать этим рекомендациям и советам». Ее можно рассматривать как совет специалистам идентифицировать себя не только с пострадавшими детьми (которые чаще всего отсутствуют на консультациях), но и с их родителями. Если такая двойная идентификация не увенчалась успехом, существует опасность, что наши разъяснения о том, что нужно детям, не будут восприняты родителями (подробнее об этом – в части II).
И наконец, в главе 4 рассматривается крайняя форма переживания детьми расставания в случае потери отца и матери.
4
См.: Bettelheim, 1975; Figdor, 1994c, 2007a; Zwettler-Otte, 1994, 2002.
5
В психоанализе под «объектными отношениями» понимаются «внутренние образы» реальных внешних отношений субъекта со своими «объектами» (референтными лицами, с которыми у него имеется тесная эмоциональная связь). Эти внутренние образы содержат субъективные остаточные переживания отношений с объектами, а также фантазии о них и об их отношениях друг с другом.
6
Боулби говорит о безопасной привязанности.
7
Здесь также может быть впечатляюще продемонстрирована функция определения треугольника: «отец», «мать», «я» являются совершенно разными понятиями, в зависимости от того, движется ли ребенок эмоционально внутри эдипальной триады или направляет свое внимание «наружу».