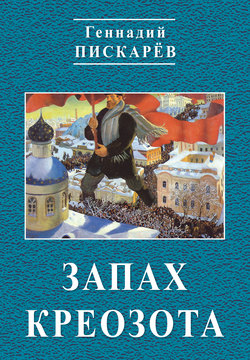Читать книгу Запах креозота - Геннадий Пискарев - Страница 8
Часть I. Будет ли в России благодать?
Янусы
ОглавлениеМне в жизни доводилось встречаться, даже работать, общаться, обмениваться мнениями со многими великими людьми. Великими как в смысле великие духом, так и великими подлецами. Назвать их имена? Потом, может быть, когда сам освобожусь от комплекса двуликого Януса, который нет-нет да и во мне пробуждается по игре обстоятельств.
Пока же, думаю, есть смысл привести интервью, которое дал я не столь давно выпускникам факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Ребята, бравшие его, сказали, что в итоге, по формату, интервью получилось больше похожим на «мастер-класс», данный профессионалом. Не возражаю.
Итак:
СУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация:
Данная публикация – это размышления бывшего сотрудника газеты «Сельская жизнь», экс-редактора журнала «Президентский контроль», члена Академии российской литературы Геннадия Александровича Пискарева о профессии и ответственности журналиста перед обществом.
Корр.: Геннадий Александрович, Как Вы пришли в профессию? Насколько мы знаем, Вы заканчивали факультет журналистики МГУ. Почему Вы выбрали именно его?
Г.А.: Да видите, как случилось… Я родился в деревне, довольно глухой, жители которой тогда читали единственную газету – районную. «Буйский ударник» называлась. Туда-то я и написал первую свою заметку, возмущенный тем, что налоговый агент – Федя Медведев начал с моей матери – вдовы-солдатки – драть бездетный налог. Каким-то образом довелось узнать, или догадался, что такой налог не должен взыскиваться с женщины, потерявшей на фронте мужа. Кстати, я учился тогда в третьем классе.
Корр.: В третьем классе?
Г.А.: Да, Федю, конечно, с работы не сняли: непросто ведь найти на должность мытаря человека с собачьей хваткой; но наши мужики меры приняли.
Подстерегли лихоимца в овраге и устроили «темную». Потом, спустя годы, я уже учился здесь на факультете, Федя приходил ко мне, хотел завести дружбу.
Так что правильно говорят: всё начинается в детстве. Моё послевоенное детство, в обыденности корявое и скупое, расцвечивалось, утеплялось величайшей благодатью, разлитой в окружающей нас природе. И ещё: босоногое, рвано-латаное детство моё выпало на великие годы истинного победного ликования. Это было время встреч с настоящими героями войны, немногими вернувшимися с фронта, односельчанами – отмытыми от окопной грязи и пороховой копоти, с отливающими золотом и огненным рубиновым блеском медалями и орденами на выцветших до бела гимнастёрках. О, как хотелось, чтобы мир узнал про них. А то, что же получается: в школе мы чтили память сыновей итальянского антифашиста Чарльза Деви, который потерял на войне семерых детей, а вот о шестерых сыновьях моего деда, сложивших головы, кто на родной земле, а кто и за пограничными столбами отечества, – чего-то нигде кроме как в моей деревне, и не говорят.
Понятно, о том, чтобы стать журналистом, я тогда не помышлял. Деревенское общество практичное, реальное, ориентировало нас на получение профессий, способных дать сразу надёжный материальный фундамент. Вот тракторист, шофёр – это да, а о журналистике у нас не ведали ни сном ни духом.
Стихи писал. О любви. К однокласснице.
«Стал для меня твой образ нежный,
Богиня из 8 «В»,
Как оберег души мятежной
И хрупкой, как роса в траве».
Потом я узнал, что написал стихи тем же размером, что и Пушкин в своём творении «Я помню чудное мгновенье». Что ж, настоящая любовь, видимо, у всех одинаковая.
Корр.: Как случилось так, что Вы поняли «всё я – журналист, я – писатель?!»
Г.А.: Наверное, после того, как я отслужил в армии и оказался в городе Обнинске, где первая атомная станция была построена. Работал машинистом на криогенной станции. Вокруг люди ученые, засекреченные, но очень какие интересные в общении.
Знатоки литературы, истории, философии. Об одном таком ученом, лауреате Сталинской премии (в Челябинске-40 делал вместе с Курчатовым атомную бомбу) Николае Лебедеве я написал восхищенный материал в городскую газету. Не об основной его работе, конечно, писал я (этого делать было нельзя), а о мастерстве ученого как художника-портретиста.
Кстати, недавно мне довелось быть на презентации поэтических этюдов, написанных, как Вы бы думали, – академиком, Героем России, одним из создателей оборонного щита нашей Родины Юрием Соломоновым. Поразил облик автора, его глаза, как бы опрокинутые внутрь. Ни дать ни взять – Гомер.
Обнинск содрал с меня деревенскую заскорузлость окончательно. И судьбу мою решил. После публикации очерка о Лебедеве, я стал узнаваемым в городе и признаваемым среди учёной братии. Осмелел я. И двинулся в литературу.
Корр.: То есть всё решила судьба?
Г.А.: Признаюсь, до армии я хотел поступить в военно-морское училище. Уж больно у курсантов форма красивая. Смерть девкам! Пришёл в военкомат, написал заявление. Всё было нормально. Девятнадцатого августа (по христианскому календарю день Преображения) получил повестку. Перед отправкой с ребятами-одногодками пошли отмечать «Преображение» в деревню Ощепково. А там подрались из-за девчат с местными ревнивыми парнями. Попал в больницу. А двадцатого-то мне надо было явиться в военкомат, на призыв. Не смог, преобразилась судьба.
Корр.: А как Вы всё таки оказались на журфаке?
Г.А.: Сначало-то я подался в литературный институт. Иду по коридору, встречаю знакомого парня из Малоярославца – Валю Ермакова. Сейчас он известный поэт. Он мне и говорит: «Гена, Литинститут – хорошая штука, но ведь после него даже распределения нет. Сам ищи работу. На журфаке надежнее: окончишь, будешь иметь место, твёрдую зарплату». Я, как человек с крестьянским укладом, сообразил, что лучше быть обеспеченным. Вот так и оказался на факультете журналистики.
Корр.: И с момента поступления Ваша жизнь как-то изменилась? Легко ли Вам было устроиться в советское время?
Г.А.: С судьбою (судом Бога) не поспоришь. А советская система никак не подавляла мои порывы. По окончании МГУ я попал в районную газету «Заря», что в Калужской области. Редактором её был Михаил Кузькин – поэт, душа широкая, вольнолюбивая. С ним у нас сложились распрекраснейшие отношения, и писали мы в газете обо всём от души. Писали о том, что нам самим было интересно. Наша газета стала не райкомовским боевым листком, а малой «Литературкой». На стихи же Кузькина писал рецензии сам Виктор Астафьев.
Писали мы, конечно, и по делу, и много. Я помню, в те годы праздновали Юбилей Октября. И мы начали такую компанию: показывать людей, которые родились в 1917 году, – ровесников Октября. Мы писали о людях, об их непростой судьбе. Это оказалась хорошая серия. Ведь человек с его судьбой заметнее, когда прочитан в историческом контексте. Наверное, не зря нас зауважали даже в таком журнале, как «Партийная жизнь».
То было прекрасное время. Время без войн, репрессий, перемен. Народу дана была как бы передышка, позволившая детям убитых в войнах отцов пережить их жизнь. Люди торопились наговориться, налюбиться. Зачитывались Хэмигуэем и Аввакумом, слушали рок и крестьянские песни. Покидали коммуналки, въезжали в малогабаритки, вышли в космос, озаренные улыбками Гагарина и Фиделя, песнями Пахмутовой и моего друга – однополчанина по службе в Таманской дивизии Александра Аверкина. В то же время народ «вкалывал» как никогда. А что же ещё и могло быть в государстве рабочих и крестьян?
Корр.: Получается, творчество для Вас – это между журналистикой и писательством?
Г.А.: Похоже. Самую престижную журналистскую награду «Золотое перо» получил я за рассказы о людях, когда работал в газете «Сельская жизнь». Именно в ту пору прозвучал партийный призыв – показывать во всей духовной красе героев пятилеток как носителей высочайших нравственных качеств. И то было мудрое дело: людям тоскливо бывает без положительного героя. Ещё Максимом Горьким – да и им ли одним? – было замечено: «со стороны своей «плоховатости» человек мало интересен. И не этим он удивителен». Я понимаю, любопытство и «плоховатость» не переводится и вряд ли переведется. Хотя взгляд на человека как на ничтожество по природе, как на существо, сводимое к простейшим инстинктам и физиологическим функциям, никогда, кажется, на поприще искусства не преуспевал. Как бы это и не пытались опровергнуть нынешние новоделы. Научиться видеть красоту вещей, духовную красоту человека – это предел того, что может достичь художник – чаще по природе своей мечтатель. А мечтатель, как сказал кто-то из великих, находит свою тропу только при лунном свете. В этом его наказание и награда: он видит рассвет раньше других.
В наше время журналисты бились за действенность своих выступлений. Ныне, похоже, этого нет. Отзвонил – и с колокольни долой. Вот тогда-то и начинается беспредел, торжество несправедливости. А хуже несправедливости бывает лишь справедливости, из чьих рук вынули меч. Когда правда – не есть сила, она – есть зло.
Сравнивая советское и нынешнее время, прихожу к таким выводам. Во-первых, мне трудно понимать нынешних людей. Быть может, потому что стало меньше личного контакта. Журналистика стала цифровой. А вот докопаться до сути, до человеческой души, – это не всем удаётся. И, к сожалению, не доходят до людей журналистские идеи, не могут они сподвигнуть народ на действо. Человек многогранен, в нём намешано столько всего! И если ему не показывать ориентир, а только многогранность, он может в ней погрязнуть, покатиться вниз.
В современной журналистике часто получается, что мы даже подталкиваем туда людей, хотя, кажется, что мы показываем человека во всей его сияющей сложности. Мир полон соблазнов, гласит Евангелие, но горе тому, через кого в мир приходит соблазн. Не будем этого забывать. Беда нынешнего поколения в том, что оно больше смотрит, а не читает. Чтение – трудное занятие, в отличие от просмотра телевизора.
Корр.: Как давно, по Вашему мнению, начался этот процесс?
Г.А.: Началось, думается давно – в 90-х. Было много запретов. А «запретный плод» сладок – сладок поначалу. По сути он ядовит: к этому надо быть подготовленным. Ведь не зря великие научные открытия хранились в своё время в монастырях. Не случайно великий сатирик Фонвизин писал в своей пьесе «Недоросль»: «Наука в развращённом человеке есть страшное оружие делать зло». К новому человека следует нравственно подготовить. Нельзя этой нравственностью поступаться. Ни в коем случае. Неспроста же связывали думающие люди уничтожение нравственных основ с кончиной государства. Нравственные основы бережно создавались веками! А мы по ним – кувалдой. Пришла пора собирать камни. И верить, что не вовсе пали люди, не умер в их душах Бог. Между прочим сказывают, что люди удивительно быстро умнеют, когда их считают умными.
Корр.: Какова в этом роль журналистов?
Г.А.: Огромная. Журналистика, называемая нередко предместьем литературы, строится на документальном отображении действительности своего времени. Тут важно понимать каждому, кто взялся за перо: время – тоже родина. Да, да, есть не только та родина – земля, где мы родились, но и время, когда мы родились, – тоже есть наша общая родина, которую нельзя предать, которую надо спасать, чтобы она навсегда осталась живой и плодоносной. Об этом и надо вести речь. И показывать человека. Не осознавшему своего пути – подсказывать направление.
Корр.: Как Вы считаете, что приоритетно для современной журналистики?
Г.А.: То, о чём говорилось уже выше. Ну, и, конечно же, способность чувствовать основное историческое движение жизни, слышать её живые голоса, нередко прерываемые шумом так называемого информационного взрыва.
Чтобы учить, надо много знать и верить в то, чему ты учишь. Это не должно быть лицемерием. Сейчас всё быстро делается, но я всё равно считаю: нужно глубже «всматриваться» в людей. Чтобы писать о человеке, надо хотя бы нравственно сравняться с ним.
– Как? И с негодяем? Самому пасть?
– Вергилий вёл Данте по аду, свёл поэта с величайшими грешниками. Но тот, познав их, воспел свет, Беатриче.
И вот ещё что. Сейчас, к сожалению, всё решает «скоропалительность». Но, тем не менее, если мы хотим жить в своём Отечестве, среди своего народа, то придётся народ спасать. Разумеется, сейчас мы поднялись на какой-то другой социальный уровень.
«Вступила родина на новую дорогу.
Господь! Храни её и укрепляй.
Отдай нам труд, борьбу, тревогу,
Ей счастие отдай» – некрасовские стихи.
А мы всё браним предшественников советских, что пели душевно:
«Была бы родина богатой да счастливою,
А выше счастья родины нет в мире ничего».
Вернёмся ж на родину, люди добрые.
Она так ждёт прихода – «у пруда, под ивою».
Корр.: Журналисты изменились, а вот читатели?
Г.А.: Сейчас люди, повторяю, мало читают, особенно умное. А ведь нет греха, кроме глупости. Все как-то «самовыражаются», но это было и раньше. Правда, раньше являлись иногда гении, которые могли «самовыражаться» талантливо и стать примером. Они могли всё как-то сконцентрировать и выдать творение, которое становилось эталоном, учебником жизни. Сейчас гениев вроде бы и нет, а «самовыражаться» хочет каждый.
Я иногда давал почитать во дворе свои вещи. У меня была книжонка, в которой написал о своей малой родине, рассказал небольшую историю, но не через своё восприятие, а глазами окружающих людей. Дал эту книгу одному своему дальнему родственнику – будущему журналисту. Родственник поразился: «Ой! А что, можно так писать?» Он прочитал брошюру, дал её своим товарищам. В итоге – прочёл весь их факультет, и книжку затёрли до дыр. Видимо, интерес-то есть.
Вот Шолохов: его же считают сталинским сатрапом, мол, «Поднятая целина» воспела раскулачивание… Ничего подобного, наоборот! Когда сейчас перечитываешь роман незашоренными глазами, понимаешь: как же правдиво, с какой болью это всё отражено!
Корр.: Будь Вам сейчас 20 лет. Чем бы Вы занялись в первую очередь?
Г.А.: Я бы изучил свою родословную. Надо знать своих предков, понять их поступки и не винить за то, что сделали они когда-то что-то не так. Об этом, знаете, Даниил Андреев в «Розе мира» хорошо сказал: упрекать предков за их, скажем, непредусмотрительность – это всё равно, что упрекать строителя российского флота Петра I за несоздание им современной авиации.
Мусульмане, как мне известно, знают всех членов своего клана до одиннадцатого колена. Я же своих предков знаю лишь до третьего от силы. А ведь какие были люди! Деды у меня на Бородинском поле воевали, и в Полтавском сражении участвовали. И такая штука: я, например, женился на девушке – Татьяне Скрицкой. Её предки по отцу во времена Екатерины бунтовали. Тогда их усмирял сам Суворов, многих отправили в Забайкалье. Как и прадедов моего тестя – советского генерала и сталинского сокола. Интересно, не правда ли?
Недавно мы отмечали юбилей Н.Н. Дроздова. Говоря заздравный тост, я не мог отметить, что прадед Николая Николаевича – святитель Филарет (Дроздов) являлся духовным руководителем архитектора Тона, создавшего Храм Христа Спасителя, редактировал манифест царя Александра II об освобождении крестьян от крепостной зависимости и сохранил нам А.С. Пушкина как национального гения. Пушкин был убит на дуэли. Хоронить его следовало вне церковной ограды. Представляете, что было бы, если Пушкина так и схоронили. Какой козырь был бы дан в руки всякого рода раскольникам отчизны нашей. Филарет отстоял перед царём право захоронения поэта по христианским правилам, сделав тем самым Александра Сергеевича объединяющим началом всех нас. Вот ведь как бывает.
Корр.: Мы учимся на кафедре печати, и она у нас самая большая по численности. Каково будущее печатных СМИ?
Г.А.: Университет – это счастье наше. Вот мы пришли учиться. Что мы на первом курсе изучаем? Древнерусскую литературу. У нас была преподавательница Татаринова. Так вот она нам Библию читала, Евангелие. Преподносила их как памятник культуры, обращала внимание на образность святого писания, на яркость, на умение апостолов изумительно выразить мысль. Будучи сестрой известного драматурга Корнейчука, написавшего пьесу «Фронт», Татаринова высказывала такие мысли о войне и мире, значение которых осознал я, только дожив до сегодняшнего расхристанного времени. Она говорила о человеческом разуме, который един и который может покончить с предрассудками наций. До тех же пор пока в войне видят зло, она всегда будет обладать известной привлекательностью. Когда в ней научатся видеть вульгарность, она не привлечёт никого. Конечно, такая перемена произойдёт не скоро. Но должна произойти. Страна, народ, объявляя войну другой стране, непременно вспомнят, что тем самым они рушат и себя, и собственную культуру. Воевать – ненавидеть. И разве можно создать песнь ненависти, как говорил Гёте, не ненавидя! Песнь ненависти… Это же противно человеческой сути.
Но о печатном слове, газетах. Они, по-моему, что книги. Они раритет, материальное воплощение культуры. То, что прозвучало на радио, телевидении – блеснуло и ушло в небытие.
Быть может, я тут немножко утрирую, отстаиваю честь газетного мундира. Но, право, уверен на все сто: запечатлённое, вырвавшееся из страстной груди слово будет востребовано всегда. Вспомним стихи Николая Рубцова о не земной радости человека, способного:
«В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!»