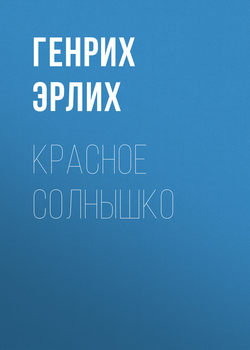Читать книгу Красное Солнышко - Генрих Эрлих - Страница 3
Глава 1
Обретение Димитрия
[1605]
Оглавление– Он! Он! Жив мой мальчик! – пело все во мне. – Вернулся! Вернулся как царь истинный!
Я стоял в толпе бояр и наиболее знатных вельмож, собравшихся на Красной площади для встречи нового царя, и не мог оторвать глаз от дорогого лица. И как всегда, обрывки сотни мыслей разом проносились в моей голове. Восхищения: какая посадка! Моя школа! Гордости: за восемь месяцев завоевал державу, в мире величайшую! Не бывало такого доныне, и подвиг сей останется неповторимым в веках! Озабоченности: без бороды – нехорошо! Или не растет? Надежды: вот увидит меня, сойдет с коня, обнимет прилюдно, возблагодарит за спасение.
* * *
И тут же мелькали картины последних дней и часов.
Опричный погром кончился так же внезапно, как и начался. Его организаторы, а я ни мгновения не сомневался, кто это были, удовлетворив жажду мести, протрубили отбой и погасили ими же вызванный пожар «народного гнева». Разграблены были лишь подворья Годуновых и близких им семейств, кроме этого пострадало еще несколько домов, все – немецких лекарей, пользовавших царя Бориса и находившихся во дворце в день его смерти. И что удивительно – даже Годуновых всего лишь бросили в темницу, а лекари, все до единого, были зарезаны грабителями.
Сразу после этого Петр Басманов твердой рукой смирил беспорядки и не дал волне грабежей и насилия перекинуться на боярские подворья и купеческие лавки. Действовал Басманов решительно, но в то же время избегал смертоубийств, не желая понапрасну озлоблять чернь, человек пятьдесят главных неугомонных смутьянов били кнутом на площади, но опять же не сильно, не до костей.
Чуть сложнее было с казаками. Они много месяцев подогревали себя мечтами о богатствах Московских, Москва не была для них священным градом, а инородной и чуждой силой. Стекаясь под знамена царевича, они шли воевать Москву, а завоевав ее, надеялись возместить грабежом и куражом все свои давние обиды. «Три дня мы в своем праве!» – кричали они, приступая к Басманову и другим самозванным воеводам. Пришлось насыпать каждому по шапке рублей серебряных да слегка подтолкнуть в сторону кружала. Только их и видали! Конечно, без ссор и драк не обошлось, чего не бывает по пьяному делу, но все это было ограничено тесными пределами кабака и пятачка перед входом. Можно даже сказать, что за эти две недели сказки о злобном нраве казаков развеялись, как утренний туман, они братались с чернью и щедро поили всех подряд, пока денег доставало. Особо же отличился бесстрашный атаман Корела, потому бесстрашный, что никому в Москве страха не внушал, он собирал вокруг себя человек до пятидесяти жителей Московских и ставил им водку ведрами, и потчевал их рассказами из своей жизни прежней. Ничто не брало Корелу, ни пуля немецкая, ни стрела татарская, ни ятаган турецкий, ни сабля польская, а кабаки Московские сгубили, схоронили атамана через полгода, вконец пропившегося.
Впрочем, то, что в те дни в Москве происходило, я только понаслышке знаю. Господь по неизбывному милосердию своему накрыл меня плащом забытья, так что пришел я более или менее в себя только к девятинам царя Федора и царицы Марии. А княгинюшка моя несчастная металась эти дни между мною, закостеневшим, и омертвевшей Ксенией, да еще исхитрялась собирать всякие слухи, по Москве ходившие. А уж как я окончательно на этот свет вернулся, так она мне их все и вывалила.
Что меня удивило несказанно, так это то, что новый царь до сих пор в стольный град свой не вступил, как будто ждал чего-то. Но по мере того, как мысли мои прояснялись, а поток слухов усиливался благодаря высвобождению княгинюшки, я стал, кажется, проникать замысел Самозванца. У памяти народной есть удивительное свойство, ее нельзя назвать короткой, хотя все события, особенно бедственные, забываются очень быстро. Но и добро забывается, вчера еще тебя славили, а сегодня уже осыпают проклятьями и бранью. Потому и говорят, что народ переменчив. Нет, он не переменчив, он забывчив. Все забывается, но далеко не сразу истирается окончательно из памяти. Как рачительный хозяин складывает все старые вещи, нужные и ненужные, в чулан, так и любой человек загоняет воспоминания в дальний уголок памяти. А как заполнится чулан под завязку, бывает, что через пять, а то и десять лет, так устраивается большая разборка. Почти весь хлам безжалостно выбрасывают на свалку, но что-то и оставляют, случается, что возвращают какую-нибудь вещь обратно в дом, подновляют, украшают новыми узорами, натирают до блеска и ставят на самое видное место. Выбор этот бывает прихотлив и ничем не объясним. Так и с воспоминаниями, какие-то изгоняются навсегда, а некоторые выносятся наверх, лелеются, обрастают подробностями красочными и зачастую превращаются в сказку. Это произошло с Иваном-Царевичем, потому одно имя его сына Димитрия разом всколыхнуло всю Русь и повергло ее к стопам молодца сказочного.
Народ Московский и к царю Борису, и к царю Федору относился с почтением и любовью, убийство Федора, которое даже не пытались особо скрыть, надругательство святотатственное над останками Бориса потрясло всю Москву, но… Прошла неделя и за отсутствием других злодейств скорбь о поверженных царях утихла, а дальше, что ни день, все чаще взоры обращались на южную сторону, сердца народные, подогреваемые искусными слухами о невиданных милостях нового царя, раскрывались навстречу ему, и все громче звучал призыв: «Челом бьем нашему Красному Солнышку! Приходи быстрее и володей нами!»
Чутко следили за настроениями толпы многочисленные приспешники самозваного царя и, как я тогда полагал, его истинные руководители. Уловив момент благоприятный, они подали ему знак и объявили широко на площадях Московских, что торжественный въезд царя в Москву состоится двадцатого июня. Простой народ возликовал и принялся украшать город, чтобы предстал он взору царя во всем великолепии. Лишь один Кремль притих, затаился, казалось, в нем сгустилась вся природная недоверчивость и осторожность людей Московских. Бояре и святые отцы, царский двор и дьяки, все, и я том числе, не ждали от пришествия нового царя ничего хорошего. Россказни Романова, Басманова иже с ними, имевшие такой успех у простого народа, порождали в Кремле лишь еще большую боязнь. А тут еще слухи, умело направляемые чьими-то злокозненными и мне тогда не известными устами.
– Попомнят вам времена земщины, – шептали боярам.
– Царь-то в Польше веру католическую принял и ведет за собой легион ксендзов и иезуитов, – говорили святым отцам и напоминали об участи Иова и Пафнутия.
– Все чины дворцовые сменит, это как пить дать! – уверяли старый двор царский. – Всю свиту свою воровскую пожалует окольничими, постельничими, стольниками, кравчими.
– Царь-то новый грозился проверку всех приказов произвести, а уж если какие нестроения найдет или, не дай Бог, недобор в казне, то уж не помилует, – стращали дьяков, и те невольно потирали руками шеи – за всеми грехи были.
Даже челядь Кремлевскую вниманием своим не обходили, хотя, казалось, ее ничем пронять нельзя было – она всякой власти нужна и потому бессмертна.
– Царь-то, говорят, не истинный, – смущали челядинцев и холопов, – Димитрий-то погиб в Угличе, а этого поляки нам подсунули на погибель державы Русской. Будете служить расстриге или кому похуже и так часть греха общего на душу примете.
Такие вот разговоры в Кремле ходили, княгинюшка их собирала и мне доносила, а уж я, не изменив ни слова, вам передаю, чтобы вы поняли, с каким настроем мы все встретили день пришествия Димитрия. А еще княгинюшка рассказала мне, что все эти дни в мастерских Кремлевских шили новые наряды царские, она даже и точную мерку раздобыть исхитрилась.
– А ведь похоже! – твердила она. – Димитрию впору бы пришлось!
– Это хорошему вору все впору! Вот и грядущему вору впору одежда нашего дорогого мальчика! Уж постарались некоторые, подобрали молодца!
Я не обольщался. И в княгинюшке всякую надежду подавлял, чтобы не погибла она от горечи разочарования.
* * *
Погода с утра была под стать настроению, сильный ветер гнал по небу низкие темные облака, а по улицам Московским тучи песка и пыли. «Дурное предзнаменование!» – говорили одни. «Как бы грозы не было!» – вторили им другие. «Ударит гром Небесный и поразит еретика на пороге града священного!» – добавляли Кремлевские недоброжелатели нового царя, но таких были единицы, я имею в виду, тех, кто такое вслух говорил.
Впрочем, непогода не помешала людишкам Московским еще с рассветом высыпать на улицы в нарядах праздничных, облепить крыши домов, заборы и даже деревья по объявленному пути следования царя и устремить в нетерпении взгляды на Коломенскую дорогу. Вот ударили пушки на Кремлевских стенах, то был сигнал, что вдалеке показался поезд царский, то был и знак всей верхушке Кремлевской: пора выходить на Красную площадь, чтобы смиренно и покаянно склониться перед новым царем.
Я заранее решил, что не пойду. Память деда, отца и брата вопияла во мне – никогда потомок великих князей Русских, царей истинных, Богом избранных, не склонится перед самозванцем! Пусть знает, пусть все знают, что есть еще настоящие витязи в Земле Русской! Пусть грозит мне смерть мученическая за строптивость мою, но мне, последнему мужчине в роду, достанет сил, чтобы с величием истинно царским взойти на место Лобное и склонить голову на плаху! Так кричал я, и княгинюшка моя, всегда меня понимавшая, не сделала ни одной, даже робкой попытки отговорить меня от самоубийственного решения. Хотя, я слышал, тихо плакала ночью, заранее прощаясь со мной навеки. И еще широко разнесла весть о моей болезни тяжкой, приковавшей меня к постели и помутившей мой рассудок, но об этом я уж позже узнал.
Настроен я был решительно, но… проклятое мое любопытство погубило величественный замысел. Всю ночь я прокрутился без сна на лавке, все утро прометался по палате из угла в угол, а заслышав залп пушечный, неожиданно для самого себя приказал подавать одежды парадные. Как ни странно, княгинюшка, в предыдущие дни мне не прекословившая, вдруг попыталась меня удержать, но – я решил! А когда я чего решил, что, впрочем, бывает весьма нечасто, то меня даже княгинюшка остановить не может, такой уж я твердокаменный человек, хотя княгинюшка называла это почему-то старческим ослиным упрямством. Какой же я старый?!
На Красной площади я вновь остановился в нерешительности. Две равно горделивые мысли раздирали меня: по всему место мое было в первом ряду, с другой стороны, не желал я первым склоняться перед новым царем. После долгой борьбы одна гордость победила другую, и я пристроился к задних рядах, среди князишек худородных, тем самым осчастливив их и подарив величайшее семейное предание на несколько поколений вперед.
Разом зазвонили все колокола Московские, но и они не смогли заглушить первый взрыв ликования толпы: «Здравствуй, царь Димитрий Иванович! Многие тебе лета, во славу Божию и на наше счастье!» – знать, поезд царский вступил в пределы Москвы. И тут в воздухе начали твориться странные вещи: сильный, но ровный ветер, дувший до этого с юга и слепивший песком глаза встречавшим, вдруг сменился беспорядочными вихрями, которые закружили песчаные смерчи, как будто какие-то бесы заметались по улицам Московским в поисках убежища. То же и в небе, темные тучи, подрагивая и колыхаясь своими тяжелыми брюхами, стали подниматься вверх и бледнеть и, истощившись в борьбе, скатываться к горизонту. Солнца еще не было видно сквозь пелену, но его путь по небу уже прослеживался взглядом, и все вокруг с каждой минутой наполнялось все большим светом. Бесовские смерчи забились по щелям, воздух очистился, стал легче и все звонче звенел приветственными криками народа.
И вот сквозь ворота Китай-города на Красную площадь ступила стройная колонна стрельцов в раззолоченных красных ферязях, за ними, сияя золотом и каменьями, отряд Русской конницы в одинаковых зеленых кафтанах, а следом польские гусары в начищенных до блеска кирасах, с белыми плюмажами на шлемах. За ними двигался крестный ход священников в торжественных ризах, возглавляемый митрополитом рязанским Игнатием, несшим в руках образ Иоанна Крестителя.
Не буду убеждать вас, что я узнал эту родную, с первых детских лет знакомую икону. Небольшая, написанная по строгому канону, она была почти вся покрыта незнакомым, слепящим глаза окладом, так что, увидев ее и сблизи, я бы, пожалуй, сомневался. Но сердце – сердце мое распознало ее без ошибки и затрепетало в груди, заметалось между воспарением к вершинам счастья и падением в бездну отчаянья и в нерешительности даже остановилось на мгновение.
И в этот миг тучи на небе разошлись, вырвавшееся на свободу солнце засияло в зените и, собрав весь свой свет, бросило его сверкающим лучом на площадь, и в этом сияющем столбе вдруг возник дивный юноша в платье из серебристой парчи, сидящий на белом аргамаке. Это чудесное видение потрясло даже маловеров, толпа вельможная тихо выдохнула: «Красное Солнышко!» – и повалилась на колени. Наверно, я один остался стоять столбом, не веря своему счастью.
Что, опять сердце подсказало, ехидно скажете вы. Нет, лицо я до малейшей черточки разглядел. Хоть и далековато было, но глаз у меня всегда был орлиный, а с годами, как мне кажется, даже еще лучше стал проникать вдаль, так что расстояние для меня не помеха, а скорее подспорье. Сомнений не было – Димитрий!
Тут-то и заметались у меня всякие картины перед глазами, о которых я вам так подробно рассказал, и мысли разные, и в конце концов желание, чтобы Димитрий тут же прилюдно обнял меня и возблагодарил за свое давнее спасение, вытеснило все остальное. Каюсь, суетное это было желание и в тех обстоятельствах радостных, быть может, даже недостойное, но так уж устроен человек – подавай ему все и сразу.
Стал я пробираться в передний ряд, и таково было потрясение всех собравшихся на площади, что передо мной не все расступались, некоторых приходилось и вразумлять тычком крепким. И еще краем глаза исхитрялся я примечать все, что на площади происходило. Святые отцы во главе с Игнатием встали у Фроловских ворот, чуть сбоку от Кремлевских святителей и не смешиваясь с ними. Стрельцы, Русские конники и польские гусары заняли каждый свое место на площади, потеснив немного встречавших. По образовавшемуся проходу степенно выступал аргамак Димитрия, сдерживаемый его твердой рукой. За Димитрием немного вразброд ехала его свита, разукрашенная сверх всякой меры, что особенно бросалось в глаза на фоне прекрасного, но строгого одеяния Димитрия. Господи, как и для чего собрал Ты столько мерзких харь в одном месте, скорбно воскликнул я про себя. Вот воистину гробы повапленные, красивые снаружи, смрадные и гнилые внутри! Но один был мне наиболее мерзок, крайний в первом ряду, Гришка Отрепьев! Да и вел он себя развязнее всех, скалил зубы, хохотал в голос и переговаривался громко с разными знакомыми, которых разглядывал в толпе встречавших.
После такого вид первейших бояр Русских, Мстиславского, братьев Шуйских, Воротынского, влекшихся пешком следом за свитой Димитрия, вызвал у меня чувство, близкое к состраданию. Сострадание! К Шуйским! Можете представить, какое смятение царило в душе моей. Но уж больно униженно выглядели всегда гордые бояре и походили скорее на знатных пленников, следующих за колесницей триумфатора.
К этому времени я уж в первый ряд пробился и, приосанившись, с гордостью и любовью рассматривал Димитрия, все ближе приближавшегося к нам. Вот он остановился, чуть повел головой, окидывая взглядом встречающих, прошелся и по моему лицу и – не узнал меня! Нет, что я говорю! Узнал, конечно же узнал! Я точно видел, как дрогнули его губы, чуть-чуть, но дрогнули, вот только этого краткого мгновения не хватило мне, чтобы понять выражение. Так что узнал, но почему-то не пожелал показать этого. Я от изумления второй раз за день в столб обратился и долго в себя прийти не мог, встреча же между тем продолжалась.
Первым от имени духовенства выступил Терентий, протопоп собора Благовещенья. Златоуст каких мало, но выбрали его не за это, просто другие святители под разными предлогами уклонились от высокой чести. Что говорил Терентий, я, честно говоря, не помню, ибо по-прежнему в столбняке пребывал, но наверняка что-то очень проникновенное и назидательное, потому что все собравшиеся согласно кивали головами. Но вот губы у Терентия перестали двигаться, Димитрий легко соскочил с коня и троекратно приложился к иконе Божией Матери из собора Благовещенья, что вызвало еще большее одобрение собравшихся, некоторые даже прослезились, видя столь явное свидетельство приверженности нового царя православной вере. И тут польские музыканты, сопровождавшие гусар, ударили в литавры и затрубили в дудки, наяривая какой-то веселый марш. «Ироды! Какой благостный момент испортили!» – воскликнул я про себя и немедленно пришел в чувство.
Димитрий между тем поднялся на Лобное место и обратился к народу. Удивительно, как мельчайшие черточки натуры по наследству передаются, – Димитрий заговорил ну точно, как дед его, Царь Блаженный, начав с детских обид своих. Конечно, многое, да почти все, действительности не соответствовало, но я еще с тех давних времен понял, что именно так и надо разговаривать с народом, если хочешь достучаться до его сердца. Я мог бы обидеться на рассказ о неслыханных притеснениях и унижениях Димитрия и его матери – уж я ли не окружал их в Угличе заботой и лаской! Но не обиделся, а с нетерпением ждал рассказа Димитрия о его спасении – уж тут-то он никак не мог меня обойти, мне даже на мгновение пригрезилось, как в соответствующем месте своего рассказа Димитрий сходит с Лобного места, подходит ко мне, обнимает и, взяв за руку, возводит вслед за собой на возвышение. Но Димитрий и тут от правды уклонился, рассказал подробно о каких-то покушениях на жизнь его, совершенных якобы по наущению Бориса Годунова, а о спасении сказал скороговоркой, помянув какого-то безымянного воспитателя.
Я чуть не задохнулся от возмущения. Чувства народные – вещь для правителя важная, и рассказы страшные народ более всего любит, но все же лучше всегда правды держаться, я так Димитрия с самого детства и учил. А ведь рассказал бы все, как было, и, право, не хуже вышло бы. Эх, видно, верно говорят, что он в Польше с иезуитами общался. Чуть поостыв, я подумал, что Димитрий просто решил держаться твердо своего польского рассказа, чтобы разночтениями не возбуждать излишних сомнений и кривотолков. Но мне-то от этого не легче! И еще одна заноза до сих пор в сердце сидит – как он мог, говоря о спасителе своем, сказать: «Мир праху его!» Грех так о живом человеке говорить, великий грех! Особенно, если этот человек прямо перед тобой стоит.
А Димитрий уже подошел к концу своего рассказа.
– И хранили меня моленья народные, – возвестил он, глубоко поклонившись в ту сторону, где стояли люди попроще, – образ родительский, – Димитрий повел рукой в сторону иконы Иоанна Крестителя, – и крест священный, предками завещанный!
Выкрикнув это, Димитрий распахнул ворот и ловко выпростал наружу крест, усыпанный алмазами, которые вспыхнули нестерпимым светом в лучах солнца. Бояре, стоявшие в первых рядах, тихо охнули, если и были у них еще какие-то сомнения, то сейчас они окончательно развеялись – знали они этот крест, очень хорошо знали, другого такого не было. И уже не по принуждению или из страха, а по чистому и искреннему порыву сердца они опустились на колени перед наследником великого рода. Пал и я – перед крестом, для меня вдвойне священным. Потом повалились на землю задние ряды, как будто гигантский косарь махнул косой, и стрельцы, и спешившиеся конники, даже свита Димитрия, до этого весьма непочтительно шумевшая.
Остались стоять лишь поляки, но с этих нехристей и спросу никакого нет, и – князь Василий Шуйский! На лице его проступали два выражения – вожделения и изумления, сменявшие друг друга с поразительной быстротой, вероятно, следуя ударам сердца. Мне бы тогда задуматься, к чему он вожделел и чему изумлялся, быть может, вся наша история по-другому бы пошла, но не до того мне было, я свою обиду тешил, а потом как-то забылось в суете дней.
Димитрий, решив, наверно, что лучшей минуты для завершения церемонии не найти, ласковым голосом поблагодарил народ Московский за проявленную любовь к нему, пообещал никогда не забывать этого, пока же велел всем встать и разойтись по домам, молить за него Бога и ждать его повелений и милостей, которые не задержатся. Потом легко взлетел в седло и степенно двинулся к Фроловским воротам Кремля во главе своей свиты. Но народ, немного разочарованный краткостью церемонии, не спешил расходиться и ждал незнамо чего. Ждать пришлось совсем недолго. Как видно, не один я обратил внимание на странное поведение князя Василия Шуйского, неугомонный Богдан Бельский, имевший к нему давний и длинный счет, подскочил к князю Василию, схватил его за воротник шубы и буквально втащил на Лобное место.
– Что же ты теперь молчишь, князь Василий? – принялся громогласно укорять его Бельский. – Не ты ли клялся на этом самом месте, что царевич Димитрий воистину погиб в Угличе? Али забыл? Что теперь-то скажешь? Ты глаза-то не прячь, ты народу в глаза смотри и говори как на духу.
– Бес попутал, – выдавил Шуйский, – не погиб тогда царевич Димитрий, пропал без следа.
В этот момент Димитрий, заслышав шум за спиной, обернулся и воззрился на Шуйского, съежившегося под его строгим взглядом. Но Бельский князя расправил, несколько раз сильно встряхнув его за воротник.
– Ты не юли! – закричал он, сверкнув очами. – Ты всю правду говори! И громче, громче! Не шепчи! Чтобы все слышали, и царь новообретенный, и бояре, и народ!
– Се есть истинный Димитрий, чудесно спасшийся! – проскрипел Шуйский и низко склонился перед Димитрием, в чем ему помогла тяжелая длань Бельского.
Димитрий удовлетворенно усмехнулся и, повернувшись к нам спиной, продолжил свой путь. Народ же, наоборот, словами Шуйского остался совершенно не удовлетворен. «Этот соврет – недорого возьмет!» – был общий глас. А иные лица, еще недавно восторженные, теперь все явственнее выражали сомнение, сомнение в Димитрии. «Чистой правде иногда верят меньше, чем самой наглой лжи», – мог бы подумать я тогда и изумиться, сколь быстро Господь дает ответы на мои вопросы. Но не подумал и не изумился, ибо продолжал пребывать в обиде от небрежения моего дорогого мальчика, а тут еще кривые ухмылки, появившиеся на некоторых лицах после слов Шуйского, поддали жару и подвигли меня на действия, недостойные моего высокого сана.
Нет, когда я, расталкивая бояр и стражников, взбирался на Лобное место, тогда я хотел лишь рассказать правду о давних событиях угличских, точнее говоря, ту часть правды, которая касалась спасения Димитрия. И еще я надеялся привлечь внимание Димитрия, ведь обернулся же он к Шуйскому, значит, и ко мне обернется, встретимся мы взглядами и тогда я, презрев гордость, первый протяну к нему руки, и дрогнет его окаменевшее почему-то сердце, и он поскачет ко мне и падет в мои объятья. Я уж первые фразы своего рассказа в голове сложил, сейчас не вспомню какие, но очень складные и проникновенные, но стоило мне распрямиться на Лобном месте и окинуть взором толпы людей, с некоторым удивлением воззрившихся на меня, как из уст моих полились слова отрывистые и бессвязные: «Это я! Верьте мне! Я тогда! В Угличе! Это он! Внук своего деда, брата моего!»
Так мне, по крайней мере, передавали потом речь мою, сам-то я ее не очень хорошо помню. Еще рассказывали, что я, повторяя жест Димитрия, выпростал крест свой нательный и целовал его в подтверждение слов своих. И что удивительно, моим словам бессвязным народ поверил, а быть может, совсем это неудивительно, ведь народ Русский – он сердцем чувствует и искренность от лукавства всегда отличит, как бы то ни было, на площади раздались громкие и дружные славословия царю Димитрию. От криков этих я немного в себя пришел и повернулся в сторону Фроловских ворот, широко распахнув глаза, чтобы не пропустить взгляд Димитрия. Но он даже не обернулся! И не оправдывайте его тем, что он слов моих мог не расслышать. Все он прекрасно слышал, но почему-то продолжал казнить меня.
Понурившись, спустился я с Лобного места и уныло побрел в кругу других бояр вслед за Димитрием.