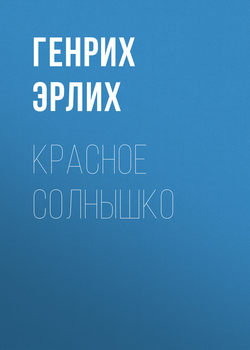Читать книгу Красное Солнышко - Генрих Эрлих - Страница 4
Глава 2
Император Деметриус
[1605–1606]
ОглавлениеВот я поражался, как Димитрию удалось всего за восемь месяцев и со столь малыми силами покорить великую державу, и приписывал это исключительно промыслу Божьему. Но я и представить себе не мог, сколь много успеет сделать Димитрий за короткое время своего правления, такое, признаю, было не под силу даже деду его, моему брату любимому. И ведь все сам, своими силами, своей энергией, не было при нем ни Адашева с Сильвестром, ни Курбского со всей их Избранной радой. Не скоро явится на Руси правитель, равный Димитрию! Да и явится ли вообще когда-нибудь?
С первых же часов пребывания в Москве Димитрий в дела погрузился, еще звучали приветственные крики народа на Красной площади, а уж он, проезжая по Кремлю, отдавал первые приказания: о сносе дворца, построенного царем Борисом, и дома Бориса Годунова и о закладке нового дворца, пока же определил, что жить будет в старом царском дворце, в палатах деда своего. Тут он прервался на время, войдя под своды храма Михаила Архангела, припал к могиле отца своего и долго молился в благоговейной тишине. Выйдя же из храма, лично озаботился размещением прибывших с ним войск, всем определил, где кому жить, где стражу нести и порядок смен. Тогда еще все удивлялись, откуда это Димитрий так хорошо знает Кремль и Москву, ведь никто в блеске силы и славы не распознал в царе скромного послушника Чудова монастыря. Лишь после этого соблаговолил Димитрий отправиться на пир, который устраивала Дума боярская в честь вступления нового царя в Москву. И опять всех удивил: ел мало, пил еще меньше, говорил же много и цветисто и, не отсидев и трех часов, удалился к себе, назначив на следующее утро заседание Думы.
Рассказывать о свершениях Димитрия нелегко, он ведь одновременно множеством дел занимался – и как он их только все в голове удерживал? Но я-то не могу одновременно писать на нескольких листах, придется рассказывать последовательно, невольно нарушая хронологию событий.
Точно можно определить только начало дел, а приступил Димитрий с первого же заседания Думы к наиважнейшему – к организации власти, самой Думы, двора царского, приказов, ведь со смерти царя Бориса власти на Руси, считайте, не было. Первых слов Димитрия все ждали с трепетом, у всех в памяти были слухи, что гуляли по Кремлю перед его вступлением в столицу, вы помните, я вам рассказывал. Страху добавил рассказ бояр о приеме их посольства в Серпухове. Димитрий заставил их промаяться целый день на солнце, наблюдая, как мимо них проходят депутации разных городов и уездов, принял же их в последнюю очередь и говорил весьма строго. Ни о каком торге и речи быть не могло, Димитрий просто сказал, что все свои решения он объявит в Москве, и с этим напутствием приказал препроводить бояр в отведенные им дома с крепкой охраной.
Но в Москве Димитрий неожиданно сменил гнев на милость, никого из бояр старых не разжаловал, говорил со всеми любезно и просил их, как встарь, верно служить царю и державе Русской. Тут бояре выдохнули облегченно, расслабились и дальнейшее расширение боярского сословия приняли спокойно. Больше всего боярских шапок получили вызванные из ссылки Нагие: дяди Марии Михаил и Григорий, ее братья Андрей, Михаил и Афанасий. Не остались обойденными и те предат…, извините, оговорился, те провидцы, что раньше других распознали в Димитрии истинного царевича и на сторону его перешли: оба брата Голицыных, двое Шереметевых, Долгорукий, Татев, Куракин, Кашин.
Все же не случайно я оговорился. Нагие? Бог с ними, с Нагими, какая ни есть, а все ж родня, да и вели они себя тихо на протяжении почти пятнадцати лет, сидели себе в ссылке до самого воцарения Димитрия и высидели себе таки счастье несказанное. Но вот остальные! Я их как раньше, до обретения Димитрия, предателями считал, так и позже своего мнения не изменил. Изменивший раз, изменит снова, что они все и доказали впоследствии. Эти – не Петр Басманов, нет!
Потом Димитрий стал раздавать чины дворовые: Михаил Нагой стал Великим Конюшим, князь Василий Голицын – Великим Дворецким, князь Лыков-Оболенский – Великим Кравчим, Гаврила Пушкин – Великим Сокольничим, Афанасий Власьев – Великим Секретарем и Надворным Подскарбием. Тут бояре заволновались: не было никогда таких чинов на Руси, конюшие, дворецкие, кравчие были, но не великие, а от секретаря и подскарбия за версту несет польским духом.
– Царствование мое будет великим, потому и слуги мои главнейшие великими именоваться должны, – отмел первое возражение Димитрий, во втором же пошел на уступку: – Не нравится вам подскарбий, нехай будет казначей, как встарь.
Вообще, с дворовыми чинами не все ладно получилось. Многие получали жалованье только за то, что пострадали в предыдущие царствования. Скажите мне, за какие заслуги и, главное, зачем приблизил Димитрий вечного смутьяна Богдана Бельского, да еще дал ему чин великого оружничего. Или вот дьяк Богдан Сутупов – он же вор известный, а стал печатником. А вот возвращение в Посольский приказ дьяка Василия Щелкалова я только приветствовал, но хоть и подлец, но в Бога верует и дело свое посольское справно ведет. Только зря Димитрий произвел Василия Щелкалова и Афанасия Власьева в окольничие, это дьяков-то! С другой стороны, именно Димитрий первый распознал полководческий дар юного тогда князя Михаила Скопина-Шуйского и возвысил его, на свою же голову, назначив Великим Мечником – хранителем царского меча. Чина такого на Руси отродясь не было, но бояре не посмели протестовать, Димитрий же определил Скопину очень высокое место на лестнице дворцовой, что позволило ему в войске претендовать на пост воеводы.
Как истинный государь, Димитрий не только жаловал, но и миловал. Все ждали лютых казней Годуновых и родственных им семейств, брошенных в темницы во время погрома опричного. Димитрий же неожиданно всех помиловал, кроме Семена Годунова, которого неизвестно кто придушил сразу после ареста. Правда, разграбленных имений Годуновым не возместили и всех из Москвы услали, но не в ссылку, а на должности почетные, наместниками в Тюмень, Устюг, Свияжск и другие города, а упоминавшийся мною Михаил Сабуров был послан вторым воеводой в Новагород.
* * *
А что же Романовы, спросите вы, что они-то получили от своего успешно реализованного заговора? На первый взгляд, немного, если смотреть на список назначений и пожалований. Но уж больно частым гребнем прошелся Борис Годунов по их семейству, жаловать почти некого было. Димитрий сделал Ивана Никитича Романова ближним боярином, но это должность негласная, вернул ему все вотчины и еще землицы прирезал, да еще приказал перенести в Москву прах остальных братьев, погибших в ссылке, и похоронить с великой честью.
О Федоре же разговор особый. Федор потребовал столь высокое вознаграждение, что Димитрий при всем своем желании удовлетворить его не мог, – возжелал он стать Патриархом Всея Руси. Ни много ни мало! По сравнению с этим прочие его требования выглядели сущими пустяками.
Да, сильный ход придумал Федор Романов, я бы сто лет думал, а до такого бы не додумался. Патриарх на Руси – фигура, почти равная царю, богатства церковные не уступают казне царской, ни одно решение в державе без Патриарха не принимается, сам же он в действиях своих свободен, а уж в междуцарствие слово его больше всех других весит, и такой человек, как Федор, вполне может своего кандидата на престол посадить, лишь бы у того хоть какие-нибудь права на него были.
Но предлагать Федора Собору Священному было делом невозможным, все его нетвердость в вере знали, а рассказы о его жизни в монастыре по всем епархиям ходили. У святых отцов и формальная отговорка имелась: не можно простого инока в Патриархи посвящать.
Тяжело пришлось Димитрию, надо было и руководителя своего удовлетворить, и со святителями не разругаться в самом начале царствования, и законность соблюсти. Все, конечно, исполнить к всеобщему удовольствию было невозможно, но Димитрий все же выпутался из этой непростой ситуации.
Первым делом он отменил разбойничьи действия Петра Басманова. Священный Собор по предложению Димитрия восстановил Иова в должности Патриарха и тут же освободил по его личной просьбе из-за многочисленных болезней и старческой немощи. После этого Патриархом избрали рязанского митрополита Игнатия, тут уж Димитрию пришлось немного надавить. Плохой выбор! Темное прошлое было у Игнатия. Грек по национальности, он был архиепископом на Кипре, потом долгое время провел в Риме, где, как рассказывают, принял унию. Впрочем, обо всех, кто в Риме обретался, такое говорят. Прибыл Игнатий на Русь всего за десять лет до этого, как-то втерся в доверие к Иову и царю Борису и был поставлен управлять Рязанской епархией. Был он пьяницей и блудником, но водил дружбу с братьями Ляпуновыми и первым из иерархов нашей церкви признал Димитрия, за это, наверно, и удостоился его благоволения.
Как бы то ни было, в своем послании при вступлении на патриарший престол Игнатий написал: «Обращаю мольбы к Господу Всемогущему воздвигнуть десницу царскую над неверными и католиками», – и то ладно! Опять же, снять его было легко, что служило весьма важным подспорьем для осуществления дальнейших планов.
После этого Димитрий предложил восстановить Пафнутия в должности митрополита Крутицкого, что для некоторых сомневающихся в истинности происхождения Димитрия – а такие еще были! – прозвучало как гром среди ясного неба. На этом фоне предложение избрать старца Филарета, в миру Федора Романова, митрополитом ростовским и ярославским прозвучало тихо и буднично и было принято без долгих споров.
Я доподлинно знаю, что Димитрий предложил Федору любую Русскую епархию на выбор, и тот выбрал именно ростовскую, где находились многие его вотчины. Он еще и округлил их за счет пожалованных Димитрием земель, а вдобавок выпросил у Димитрия монастырь Святого Ипатия со всеми прилегающими угодьями. Ох, зря он это сделал! Монастырь этот был основан ханом Четом, предком Годуновых, там же находится и их родовая усыпальница. За триста лет Годуновы сделали столько благодеяний для монастыря, внесли столько вкладов, что Ипатий, можно сказать, стал их семейным святым. А святые ведь не ангелы, они – люди в прошлой жизни, они ведь и отомстить могут. На следующий день или через триста лет – без разницы, и то и другое для них лишь миг по сравнению с вечностью. Прости, Господи, прости, Святой Ипатий, если что не так сказал!
И еще без одной несправедливости не обошлось. Для того чтобы освободить место для Федора, удалили митрополита ростовского Кирилла, достойнейшего мужа, который был хиротонисан в митрополиты всего-то за три месяца до этого. Его можно было переместить на другую епархию, но он был неудобен Романовым тем, что присутствовал при кончине царя Бориса. Поэтому Кирилл удалился на покой в Троице-Сергиеву Лавру, где прежде был архимандритом. В скорбные для меня дни, находясь в Лавре, я много беседовал с ним, и слова его пастырские служили мне истинным утешением. По прошествии лет Кирилл был вновь призван к служению вере православной и Земле Русской, был и митрополитом ростовским, и патриархом, и в значительной мере благодаря его молитвам и стараниям в Московии установился какой-никакой мир и нынешний относительный порядок.
* * *
Не откладывал Димитрий и венчания на царство, понимая, что миропомазание как ничто другое укрепляет устои трона. Царь Федор-то не поспешил – и что из этого вышло?
А какое венчание без материнского благословения? Да и истомился Димитрий по матери, поэтому в далекий монастырь на Шексну было снаряжено посольство торжественное – бояре Мстиславский и Воротынский, князь Мосальский и любимец новый, князь Михаил Скопин-Шуйский.
Народ собирался встречать царицу у Сретенских ворот Москвы, стрельцы же стояли цепочкой вдоль Никольской улицы и далее до Ярославской дороги. Любопытные заполнили луга вдоль дороги, чтобы не пропустить редкостное зрелище. Димитрий же со всем двором выехал вперед к селу Тайнинскому, где заранее была намечена встреча. Там же на лугу установили царский шатер, сделанный еще по заказу царя Бориса, тот, который в виде замка с остроконечными башенками.
Поезд инокини Марфы был невелик, но сановит. Впереди на белом аргамаке ехал Михаил Скопин, за ним колымага Мстиславского, потом Воротынского, а уж за ними изукрашенная золотом царская карета, которую Димитрий послал для удобства матери. Остальное, впрочем, тоже было расписано. Димитрий не стал дожидаться поезда на лугу у шатра, а припустил навстречу, у кареты спешился, открыл дверцу, снял шапку и подал руку матери. Та вышла и сердечно прижала сына к сердцу.
Слышал я досужие разговоры, а вдруг инокиня Марфа сынка-то не признает, через четырнадцать-то лет. Нехорошо выйдет! Но я-то знал, что признает, потому что один из немногих ведал, что Димитрий навещал мать перед побегом в Польшу. Но беспокойство все же было, норовиста была Мария, такую и монашеский куколь не смирит, могла и взбрыкнуть на ровном месте, а тут, на глазах у десятков тысяч людей, любая заминка могла произвести неблагоприятное впечатление. Но – пронесло. Бог милостив!
Десятки тысяч москвичей говорили потом, что они видели слезы радости на щеках Димитрия и его матери. Я не видел, врать не буду, да и мудрено это на таком-то расстоянии. А вот то, что Марфа гладила сына рукой по щеке, это разглядел, и как в лоб его поцеловала нежно, это тоже.
Димитрий шел с непокрытой головой рядом с каретой, не переставал говорить с матерью, и так до самого шатра. Вышла Марфа из кареты величаво, как и не было почти двадцати пяти лет ссылки и монастырского заключения, кивала всем милостиво, улыбалась благостно, лишь на меня зыркнула ненавистно, но хоть так заметить соизволила! Да я на нее и не обиделся, был у нее свой женский счет ко мне, с ее колокольни так даже и справедливый, но я же не о себе пекся, а о роде и о державе, тут понимать надо!
Венчание на царство было через три дня, сразу за Ильиным днем. Очень скромное, это только полякам оно почему-то показалось чрезвычайно пышным. И пир был даже не пир, а посиделки короткие, всего на один вечер. С утра же Димитрий был уже в Грановитой палате на Думе боярской.
* * *
Шли дни и недели, и постепенно улетали прочь и забывались мои страхи, что Димитрий будет править как отец, с грозой, а точнее, что оставшиеся в его ближайшем окружении наследники опричных родов продолжат опричный погром. Димитрий скорее в другую сторону качнулся, никакого произвола не допускал, требовал, чтобы все было по закону, Разбойный приказ, при Семене Годунове разросшийся до невероятных размеров – до пятидесяти человек, почти весь разогнал, оставшимся же запретил рассматривать доносы без подписи и повелел заниматься лишь явными разбойниками. Отчасти поэтому в царствование Димитрия в Москве не было ни судов, ни, тем более, казней.
Кроме одного случая. Петр Басманов с первых дней своего пребывания в Москве озаботился источником слухов, что будоражили столицу перед вступлением в нее Димитрия. Не тех, что Семен Годунов распускал, а других, о которых я вам тоже рассказывал. Тут Басманову неожиданно помог Богдан Бельский, который дал ему точное указание – Шуйские. За доказательствами дело не стало, многие люди, и из детей боярских, и купеческого звания, покаялись чистосердечно, что по прямому наущению князя Василия Шуйского с братьями распространяли слухи зловредные, называли Димитрия самозванцем и неведомо чьим сыном, обвиняли его в приверженности ереси латинской, в полном подчинении приказам иезуитов и короля польского, в жестокостях по отношению к истинно православным и к верным слугам державы Русской, призывали не подчиняться новому царю. Когда Басманов доложил Димитрию о результатах проведенного им розыска, тот повелел всех арестованных по делу немедленно отпустить, ибо клеветали не по злому умыслу, а по соблазну дьявольскому, главных же прислужников нечистого – братьев Шуйских – приказал арестовать, заковать и бросить в темницу.
Димитрий и тут всех удивил, по мнению общему за одно только дело Угличское Димитрий мог казнить князя Василия Шуйского по своему усмотрению, он же повелел судить Шуйских открытым судом, так, как доколе никого не судили на Руси, – Собором из избранных людей всех чинов и званий. И суд народный в виду свидетельств многочисленных и неопровержимых вынес свой приговор единодушный: князю Василию – смертная казнь, а братьям его, Дмитрию и Ивану – темница до скончания дней.
Василий Шуйский и не думал оправдываться или просить о снисхождении. Он с того самого момента, когда увидел дедовский алмазный крест в руках Димитрия, пребывал в каком-то странном состоянии, разговоров не то что злоречивых, а вообще почти никаких не вел и только все время озирался вокруг с ужасом в глазах. Тут надобно было князя Василия знать, человек он был без совести и горазд на всякие дела подлые, но при этом очень суеверный, все, связанное с загробным миром, приводило его в трепет, во всякой мелочи обыденной он боязливо выискивал знаки присутствия потусторонних сил, которые он подозревал в неблагосклонном к нему отношении. А тут князь Василий воочию увидел мертвеца, восставшего из гроба, а ведь он крест прилюдно целовал, что Димитрия нет в живых. Я даже готов допустить, что Шуйский искренне верил, что Димитрий погиб, не в Угличе, так позднее, потому и злословил столь самонадеянно. Но узрев истинного Димитрия, он пришел в ужас, оттого и признался без обычных своих уверток в угличском подлоге и в распускании слухов гнусных и даже плаху воспринял как неизбежное и справедливое наказание.
Трусливый в жизни обыденной, в час свой смертный князь Василий держался весьма достойно, на глазах многотысячной толпы, собравшейся на Красной площади, сам поднялся на место Лобное, со смиренно поникшей головой выслушал приговор царский: «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему, коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми моими подданными, называл лжецарем, хотел свергнуть с престола. За то судом народным осужден на казнь – да умрет за измену и вероломство!» Потом Шуйский поклонился в пояс на четыре стороны, прокричал своим надтреснутым голосом: «Братья, умираю за ошибку свою, которую принимал за истину. Простите мне вины мои, вольные или невольные. Молитесь за душу мою грешную Господу Богу!» – и, опустившись на колени, положил голову на плаху.
Палач занес топор, и тут раздался крик: «Стой! Указ государев!» От ворот Фроловских, расталкивая толпу, двигался гонец со свитком в высоко поднятой руке – Димитрий помиловал Шуйского. Толпа недовольно зашумела, лишенная столь редкого в последние годы зрелища, но, понукаемая присутствовавшими боярами и стрельцами, вскоре принялась славить милосердие молодого царя.
Не знаю, какая муха укусила тогда Димитрия! Более того, отправив братьев Шуйских в ссылку, он приказал вернуть их с полдороги, воскликнув: «Не умею я ничего делать вполовину! Прощать, так уж прощать!» Не многие поддержали тогда его решение, особенно же буйствовал Богдан Бельский, доказывавший, что князь Василий не такой человек, чтобы забыть пытки и плаху, что он непременно зло затаит и рано или поздно отомстит. Все правильно, по обыкновению своему, говорил Бельский, но по той же привычке старой очень невоздержанно. Ум и государственные способности Димитрия он описал в таких выражениях непотребных, что Димитрий не выдержал и опять сослал боярина, по накатанной дороге в Нижний Новгород. Так список личных врагов Бельского увеличился еще на одного венценосца.
Василий Шуйский по возвращении в Думу боярскую рассыпался перед Димитрием в изъявлениях благодарности и клялся в верности до гроба. Лукавил! Как я его понимаю, Шуйский посчитал, что своим восхождением на место Лобное он искупил свой грех пред Господом, а во всем последовавшим за этим увидел знак явного благоволения Небес, поэтому с удвоенной силой принялся за свои дела подлые.
* * *
Но то все дела Московские, а лучше даже сказать – Кремлевские. Я, конечно, немало знал людей, особенно среди чинов двора царского, для которых вся Русь Кремлевскими стенами ограничивалась, для которых только то, что при царском дворе происходило, имело значение, а вся остальная держава интересовала их лишь постольку, поскольку доставляла им пропитание.
Димитрий, слава Богу, был не из таких, он о стране своей знал не понаслышке, для него народ и держава были на первом месте, а Кремль, включая Думу боярскую и весь двор царский, он рассматривал скорее как средоточие зла, о чем несколько раз и говорил неосторожно во всеуслышанье, и мирился с этим как с неизбежным злом.
Решив все дела с устройством власти, Димитрий и обратился к главной своей заботе, к народу и державе. Я совсем недавно позволял себе смеяться над обещаниями, которые широко разбрасывал Димитрий перед восшествием на престол, а ведь он все исполнил! Единственный раз такое случилось на моем долгом веку, а вам, я боюсь, и не суждено никогда такое увидеть.
Первым делом Димитрий удвоил жалованье людей служивых и во всех землях Русских установил новое, более щедрое наделение поместными землями. Теперь в ополчение дворяне должны были идти охотнее, и от них можно было требовать лучшего снаряжения.
Еще приказал Димитрий одним махом выплатить все долги казенные предыдущих царствований. Откуда долги при полной казне, удивитесь вы. Так вы, чай, сами в жизни обыденной не спешите долги свои отдавать, а чем казначеи царские лучше. У них это в такую привычку вошло, что при встрече они вместо здравия восклицают: «Денег нет!» Мало ли для каких дел неотложных деньги государю потребуются, пусть уж лучше в казне лежат, целее будут.
Всем недоплачивали, жалованье подьячим, писцам, стрельцам, ямским и другим государевым работникам задерживали и на год и на два, бывало, что человек, измученный ожиданием бесплодным, соглашался на половинную сумму, то-то казначеям радость, они для определения скаредных дел своих в Европе слово особое подхватили – экономия. Каким словом ни называй, людям от этого не легче, жизнь без денег в дремоту впадает. А как долги-то все выплатили, так все и завертелось, торжища заполнились товарами и людьми, ремесленники принялись работать, не разгибая спины, топоры по всей стране застучали, всяк что-нибудь строил, не дом, так сараюшку. Торговля оживилась необычайно, но Димитрий, строго следуя своим обещаниям, все равно снизил пошлины торговые. Но недолго ликовали купцы Русские, как потянулись караваны иноземные, так они сами били челом государю, чтобы вернул он все на круги своя.
Не забыл Димитрий и о черном люде. Он обещал крестьянам свободу – он ее дал. Тут он впервые крепко схлестнулся с Романовыми, ведь полное закабаление крестьян – это их любимая идея. Они ее с Запада принесли, это там крестьяне находились в полной собственности землевладельца, а на Руси землепашцы всегда вольны были. Каждую осень, в Юрьев день, собрав урожай и выплатив хозяину пожилое, они могли уйти, куда хотят, к другому ли хозяину, на место обжитое, или в места дикие, которые государь выделял для заселения свободного.
Многим хозяевам это не нравилось, особенно, людям служивым, мелкопоместным, от них крестьяне часто уходили в боярские вотчины или на казенные земли, где жизнь была богаче и спокойнее. Помню, как служивые люди к брату моему приступали, прося изменить сложившийся порядок, но ни он, несмотря на все благоволение к ним, ни впоследствии Избранная Рада, не посмели покуситься на свободу народа. Лишь во времена опричнины царь Иван по наущению Романовых утвердил указ об отмене Юрьева дня. Не от хорошей жизни утвердил, крестьяне из опричных уездов бежали в земские, деревеньки опричников без всякого душегубства будто вымирали.
В таких делах главное – чтобы слово было сказано, земщина после победы своей указ Иванов отменять не стала, никто с крестьянами благоприобретенными расставаться не хотел. Действовал указ только в центральных землях, а на севере, в Сибири, в степи, на западной украйне крестьяне, как и встарь, оставалась свободными, но области вокруг Москвы постоянно волновались, внушая боярам непреходящий страх, который могла превозмочь только их жадность.
Лишь цари, как защитники народные, пытались исправить несправедливость. Царь Борис разрешал Юрьев день то на год, то на два, но на большее не решался, не в силах сломить волю боярскую. Димитрий и это решил одним махом. Он даже дал свободу беглым холопам, которые убежали от хозяев во время недавнего голода, не имев нужного пропитания. Также он объявил свободными холопов, лишенных воли насильно и без крепостей внесенных в книги государственные. Прочих же беглых холопов приказал изловить и вернуть хозяевам, но это уж строго по закону, не нами придуманному, – подписал по доброй воле грамоту кабальную, так изволь отрабатывать.
Лишь с одним обещанием Димитрий не вполне справился, обещал он суд справедливый для всех, но мздоимство в судах никакими указами не вывести, и до него такие благие порывы у правителей были, и после, несомненно, будут, но, боюсь, довеку эту заразу на Руси не вывести. Возможно, понимая это, Димитрий дал народу последнее прибежище от несправедливости – суд царский. Объявил, что отныне он каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные на Красном крыльце дворца своего. И принимал, и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, разбирал, и приговор свой выносил. Еще и бояр к тому же побуждал: «Посидите, пообщайтесь с народом! Много интересного узнаете!» Бояре, кряхтя, подчинялись.
* * *
А как же с другими обещаниями, ехидно спросите вы. С какими такими другими, отвечу я, прикидываясь дурачком. С теми, что Димитрий давал, когда в Польше обретался, приступите вы. Ах, с этими, протяну я. Что ж, натура у Димитрия широкая, щедрая, он обещаниями так и сыплет, немудрено, что о некоторых и подзабудет. За давностью лет и дальностью расстояний. Кто его за это осудит? Точно – не я. Для меня главное, чтобы все не во вред державе Русской делалось, а это Димитрий соблюдал свято. А уж по обещанию Димитрий это делал или по собственному разумению – это дело второе. Да и что я мог знать тогда о тех обещаниях, меня в Польше при этом не было, а дела эти тайные, о них на площадях не кричат. О чем же я потом узнал, о том потом же вам и расскажу, в свое время.
Но помимо короля Сигизмунда, который в далеком Кракове безуспешно ждал выполнения неких обещаний, были еще поляки, что с Димитрием в Москву вступили. Они под боком, они на глазах, и Димитрий, верный своим принципам, расплатился с ними сполна. Хотя, как мне показалось, они на большее рассчитывали. Мы все опасались, что теперь паны большую власть в Кремле заимеют, что Димитрий будет если не слушаться их, то во всем им потакать. К счастью, этого не случилось. Более того, Димитрий постарался постепенно отдалить поляков от себя.
И началось это буквально на второй день пребывания Димитрия в Кремле. К нему на прием пришли командиры немецких наемников во главе с Яковом Маржеретовым.
– Мы честно служили царям Борису и Федору, ты победил их, теперь просим тебя: или дозволь нам свободно уехать на родину, или возьми нас на свою службу, – сказали они.
– Помню, сражались вы храбро и стойко, – сказал Димитрий и вдруг закричал, немного притворно: – Как вы посмели поднять оружие против меня, царевича истинного?
– Это ваши Русские дела, – ответили наемники, нисколько не испугавшись, – мы в них ничего не понимаем и понимать не хотим, ибо недоступны они простому уму. Мы присягали царям Борису и Федору, им и служили. Возьмешь нас на службу, тебе присягнем и будем служить столь же верно.
– Пока деньги платить буду? – с усмешкой спросил Димитрий.
Немцы лишь недоуменно переглянулись, то ли не поняв вопроса, то ли поразившись его несуразности.
– Ладно, и так ясно, – рассмеялся Димитрий.
Тут в распахнутое окно донеслись громкие крики поляков, продолжавших вчерашнюю попойку.
– Защитнички! – раздумчиво протянул Димитрий, чуть скривившись, и окинул немцев внимательным взглядом, потом подозвал Басманова, о чем-то тихо с ним переговорил и вновь обратился к немцам. – Беру всех! Плачу вдвое! (Ser gut! – прошелестело по палате.) Будете охранять дворец царский, ворота Кремлевские и сопровождать меня при выездах. Все!
– Через два часа наши солдаты будут стоять перед твоим дворцом, – сказал Яков Маржеретов, низко кланяясь вместе с остальными, – после принесения присяги готовы сразу же заступить на посты согласно росписи, – и после небольшой паузы добавил: – Соблаговоли, государь, приказать, чтобы контракты к этому времени подготовили.
– Подготовим, подготовим, не волнуйтесь, бумажные души, – отмахнулся Димитрий, – у меня сейчас другая забота, как ляхов из дворца и из Кремля убрать, чтобы у вас с ними столкновения не вышло.
– Позволю себе дать совет, – сказал Маржеретов, вновь низко кланяясь, и, дождавшись одобрительного кивка Димитрия, продолжил, – объяви, что в Дворцовом приказе им жалованье выдавать будут.
Так и сделали. Поляки все, как один, явились в Приказ, расположенный на Красной площади, напротив Фроловских ворот. «Защитнички!» – вновь протянул Димитрий, обозревая опустевшие коридоры дворца и настежь распахнутые двери. Но деньги полякам в Приказе все же выдали, там же им указали новые дворы для постоя. Все устремились туда, а потом в кабаки, прокучивать полученные деньги. Больше их в Кремль не пускали, разве что когда Димитрий призывал.
Но это касалось простых шляхтичей, ничем от наемников не отличавшихся. Из них, в конце концов, отобрали сотни полторы приличных воинов и зачислили на службу царскую, но до охраны не допускали и держали в особых домах за пределами Кремля. Оставшийся сброд всеми силами старались спровадить домой, Димитрий даже выдал дополнительную награду, по сорок злотых, деньгами и мехами, но уехали далеко не все, иные и остались, дрались и безобразничали на улицах, приставали к женщинам нашим или сидели по кабакам и жаловались жителям Московским, что Димитрий их обманул.
Были и другие. Несколько человек, среди них некие братья Бучинские, проживали во дворце царском, в соседних с царскими палатах, исполняли обязанности секретарей и вели обширную переписку Димитрия, которую он пускал в обход приказа Посольского. Еще десятка три ляхов, из именитых, использовались Димитрием для дел не менее тайных, они часто, поодиночке и группами, уезжали куда-то из Москвы, возвращались нескоро и после этого надолго запирались в палатах Димитрия, в остальное же время вели себя достаточно тихо, насколько это могут поляки. Этих панов Димитрий честил, если с боярами нашими он пировал как бы по обязанности, не пытаясь иногда даже скрыть владеющую им скуку, то поляков сам приглашал к своему столу и веселился с ними без удержу.
* * *
Но главной заботой Димитрия было войско – истинно царское дело! Ему он отдавался со всей страстью и не жалел на него сил своих. Начал, как я уже рассказывал, с наемников, коих он именовал словом иноземным – гвардия. Было их три сотни. Первая под командой Якова Маржеретова ходила с бердышами, увенчанными чеканным золотым орлом, с древком, обтянутым красным бархатом, и была одета в бархат и золотую парчу, называл их Маржеретов на французский манер мушкетерами, хотя какие они мушкетеры, без мушкетов-то? Вторая, алебардщики под командой Матвея Кнутсона, была обряжена в фиолетовые кафтаны, третья, пищальники под командой шотландца Альберта Вандтмана, – в камзолы зеленого цвета. Так они выступали на всяких церемониях и при выезде царя, придавая процессиям подобающую пышность, или стоя на страже, всегда трезвые, суровые и недремлющие.
Но Димитрий определил им и другую работу, тогда они переодевались в доспехи обыденные и выезжали в поле. Ибо затеял Димитрий дело, невиданное ранее на Руси, – он задумал войско свое обучать. Нет, Русские всегда хорошо воевали, кто сомневается, пусть на карту посмотрит. Но то ли походов больших давно не было и поэтому навыки ратные забылись, то ли войны стали немного другими и требовали новых навыков, как бы то ни было, что-то в организации войска надо было менять. Но за сто лет, со времен деда моего, ничего толком сделано не было.
Казацкие орды, бывшие долгое время главной военной силой, за несколько десятилетий бездействия совсем одичали, в землю по украинам вросли, обженились против правила, расплодились, свои законы установили, боярам и воеводам не то что не подчинялись, а смотрели на них как на врагов лютых. Только волю царя пока еще призвали, да и то не каждого. Если и поднимались, то лишь для защиты от нападения или для набегов грабительских, их и призывать-то боялись, потому что потом обратно в курени не загонишь. Но вояки славные! Атаман Корела под Кромами всем это показал.
А кто ему противостоял? Ополчение из детей боярских, которое раньше на вторых ролях было, в походах военных никогда не участвовало, но теперь вдруг стало главной военной силой державы. А ополчение и есть ополчение, не приученные сызмальства к военному делу, порядку военного не знающие, воинники эти обучались науке ратной по ходу войны, часто платя на науку собственными головами.
Нужно было вновь создавать войско отдельное, чтобы ничем, кроме дела ратного, не занималось. Тем более что страны европейские бунтовать начали. А боярам с воеводами и дела мало, от добра добра не ищут, говорили они, раньше жили не тужили и дальше, Бог милостив, проживем. Пушек у нас больше всех и в людишках недостатка нет, если что – шапками закидаем.
И цари воевод слушали, только брат мой понимал, что надо делать. Войско стрелецкое завел, отдельный царский полк из детей боярских, тот, что под Казанью полег, а больше не успел.
И вот по прошествии пятидесяти лет явился Димитрий, который дело деда своего продолжил. Призвал он в помощники себе некоторых из немцев и из поляков, в деле воинском сведущих, приказал выстроить под Москвой крепость земляную и стал обучать стрельцов брать эту крепость приступом. То есть вначале посадил стрельцов в крепость, а наемников немецких на стены бросил, со всеми их хитроумными лестницами. Но без оружия, лишь с короткими палками, зимой же использовались еще знатные метательные снаряды – снежки. Но даже с этим оружием немцы наших поначалу побили и крепость легко взяли, немудрено, они ведь только этим в жизни занимались, а во всяком деле своя сноровка нужна. Так что на третий раз наши отбились и немцам немного бока-то намяли.
Тогда Димитрий немцев в крепость посадил и заставил наших действия их при приступе повторить, и еще раз, и еще раз, пока так же ловко, как у немцев, не стало выходить, потом другую тысячу стрельцов пригнал и с ними повторил то же самое, и с третьей, и с четвертой.
А еще принялся пушкарей обучать, установил в поле у Нижних Котлов двадцать пушек, а напротив в тысяче шагах двадцать щитов деревянных, приказал пушкарям стрелять, а кто щит ядром разобьет, тому – рубль серебряный. Поначалу казна никакого убытку не терпела, Димитрий гневался, кричал раздосадованно, сам бросался пушки заряжать и прицел наводить и частенько попадал в цель, но потом дело у пушкарей на лад пошло, пришлось награду до алтына снизить.
Когда же пушкари начали щелкать щиты как орехи, Димитрий удумал поставить между пушками и мишенями стрельцов, чтобы ядра у них над головами летали. Пару раз, правда, промашка вышла, зато оставшиеся уже не боялись ни грохота пушек, ни свиста ядер над головой.
Немцы еще настаивали, что в дополнение к этим занятиям хорошо бы еще строем походить, чтобы ровно получалось и для глазу приятно. «А вот это дудки! – воскликнул Димитрий. – Не дам над ратником Русским измываться! Когда же мне захочется приятно для глаз сделать, я вам прикажу мимо дворца моего ногами топать, оно и довольно!»
Все же Димитрий испытывал не совсем понятное мне уважение к европейскому ратному искусству, он даже приказал перевести с немецкого и латинского языков и сделать около сотни списков «Устава дел ратных». В ответ же на недоуменные вопросы, зачем все это надобно, он самолично вписал в начало следующие слова: «Сия книга нужна каждому воеводе, чтобы знали они все новые хитрости военные, коими хвалятся Франция, Италия, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Польша с Литвой, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку, необходимую для благосостояния и славы государств, – в науку побеждать врагов и хранить целость земли своей». Чего только ни было в этой книге: даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов. Написано все было с военной ясностью и точностью, но у меня от всего этого голова кругом шла и в сон бросало.
Не понимаю я этих уставов, слишком много слов об исхищрениях силы телесной и почти ничего об укреплении сил душевных, от которых, в сущности, и зависит победа. Вот и в Димитриевом Уставе только один совет дан: пред всякою битвой воевода должен ободрять воинов лицом веселым, напоминать им отечество и присягу, говорить, что сам будет предводительствовать им, что лучше умереть с честию, нежели жить бесчестно, и с сим вручать себя Богу. Хоть так!
Неутомим был Димитрий и в поиске нового оружия и всяких хитроумных устройств для войны. Умельцев у нас предостаточно, только крикнули, что царь жалует щедро за всякие придумки, сразу набежали, волосы всклокочены, глаза огнем бешеным горят, изо рта слюна во все стороны летит, а в руках у многих какая-нибудь игрушка, из дерева или из металла сделанная, у иных же листок, исчерченный линиями угольными. Димитрий все это с интересом рассматривал, дивился, кое-что и на заметку брал. Сделать же успел только две штуки.
Первая была снаряд огненный, который сам по воздуху летал. Даже не знаю, как вам объяснить, я и сам-то не очень хорошо понимаю, почему он летал. Пушку я понимаю, кладешь в нее порох, поверх ядро, поджигаешь порох, он взрывается, как ему положено, и взрыв вышвыривает ядро вон из пушки. Ядро летит, пушка на месте остается, заряжай заново. Тут же ни ядра, ни пушки, только трубка, с передней стороны закрытая, в которую набивали порох, когда же порох поджигали, то он не взрывался, а начинал гореть ярко, и трубка в огне и пламени улетала в небо или куда ее направляли.
Ядро – вещь не страшная, главное, на его пути не становиться, а за хорошей стеной, не то что каменной, но даже и дубовой, от него вполне схорониться можно, ощущение изнутри такое, как будто кто-то молотом в стену бьет, да никак не пробьет. Этот же снаряд, когда в цель попадал, взрывался, как бочонок с порохом, если и не разворотит стену, то все вокруг пожжет.
Штука при ближайшем рассмотрении оказалась не новой, было ей сотни три лет, а то и все четыре. Как порох придумали, так сразу и такие снаряды запускать стали. Но потом на пушки перешли, а эти снаряды, совсем маленькие, для развлечения оставили. Димитрий же решил их вновь для военных нужд приспособить. Он даже такое придумал: сделал подставку специальную, на которую положил рядком десяток таких снарядов, выбрал рощицу в полуверсте, прицелился и – жахнул. Десятины леса как не бывало, это как град в поле, все поломано, все ничком лежит, да его и горит. Правильно в свое время от этого оружия отказались, если такая штука на город обрушится, это же Содом и Гоморра будет, как-то совсем уж не по-христиански, пусть лучше пушки остаются, с ними народ свыкся. А Димитрий, знай себе, хлопает в ладоши: «Ах, как славно! Установлю эти подставки на телеги или на сани, мигом в любое нужное место доставлю, а уж там – берегитесь!»
Вторая придумка Димитрия была еще непонятнее и породила множество слухов. Был это огромный ящик, сажени четыре в длину, полторы в ширину и столько же в высоту, поставленный на два ряда колес, которые виднелись из-под него как ножки у сороконожки. Сделан был ящик из мореных досок дубовых с прикрепленными снаружи полосами железными. Полосы были не для украшения, а для защиты, Димитрий сам толщину их подбирал так, чтобы пищальная пуля с десяти шагов не могла их пробить. В передней стенке было окошко со ставнем, но за ним не девица красная пряталась, а пушка изрядная. В боковых же стенках были узкие прорези для стрельбы из пищалей. Но все это было незаметно, потому что снаружи ящик был покрыт затейливой росписью, изображавшей разные хари зверского вида и всякую нечистую силу.
Можно было догадаться, что это нечто типа гуляй-города, но маленького, в сборе и на колесах. Или тур, что используется для штурма крепостей, но низкий. Народ же окрестил эту штуковину «адом», вероятно, из-за росписи. А потом и другой повод появился.
Воеводы, знавшие о предназначении штуковины, за спиной у Димитрия посмеивались: «Изрядная штука! Любого неприятеля испугает! Вот только как ее до того неприятеля доволочь?»
Действительно, ящик оказался тяжеловат. Хоть и сделали для него особые, очень широкие колеса, а все же сдвинуть его могла только шестерня лошадей, да и то лишь по дороге мощеной. Но Димитрий не отчаивался, вскоре привезли и установили внутри ящика печурку металлическую, котел замысловатой формы и другие железяки.
– Сей тур отныне сам двигаться будет! – объявил Димитрий. – Как тур живой!
– Как это? – удивленно спросили бояре.
– Сам пока не знаю, – ответил Димитрий, – но вот этот, – тут он кивнул на тщедушного мужичка с всклокоченными волосами и горящими очами, – головой ручается.
Но что-то у мужичка пока не получалось, тур весь трясся от напряжения, действительно, как живой, но с места двигаться не желал. Димитрий наблюдал за этими попытками из окна своего дворца, народ же ходил кругами вокруг, смотрел на дымящую трубу печурки, на вырывающиеся струйки пара, крестился и приговаривал: «Воистину ад! Господи, помилуй нас, грешных!»
* * *
В чем никто не сомневался, так это в том, что дело к войне идет. Но никого это не беспокоило, все привыкли, что маленькая победоносная война в начале царствования есть необходимое условие укрепления престола и придания ему подобающего блеска. А тут и повод был подходящий – наш союзник еще со времен царя Бориса король польский Сигизмунд призывал нас помочь ему усмирить мятежную Швецию и вернуть ему похищенную дядей корону. Поговаривали, что Димитрий, находясь в Польше, клятвенно обещал Сигизмунду оказать ему эту услугу в благодарность за поддержку. Но Димитрий возможностью этой не воспользовался, лишь послал королю Карлу бранчливое письмо в стиле своего деда и отца, этим и ограничился.
Порывистый, всегда спешащий, Димитрий в подготовке к войне проявлял удивительную сдержанность и основательность. Он именно готовился, а не бросался вперед очертя голову. Вот только планы его долгое время оставались секретом.
А где секреты, там и слухи. Большинство было уверено, что, пренебрегши северными завоевания, Димитрий нацелился на юг. Вот и Романовы на Думе боярской призывали сокрушить Крымское ханство, беспокойного и вороватого соседа. Другие же прозревали путь Димитрия еще дальше, до самого Царьграда. Утверждали, что в письмах правителям европейским и Папе римскому Димитрий обещал им не только помощь в отражении турецкого нашествия, но и самое активное участие в новом крестовом походе против неверных. Можно подумать, что они свечку держали, когда Димитрий те письма писал!
Тут Димитрий проявлял удивительную осмотрительность, столь ему несвойственную. Любящий поговорить по любому поводу, он упорно молчал, когда речь заходила о будущей войне, даже в Думе боярской он терпеливо сносил долгие рассуждения бояр о том, идти ли на крымского хана или еще десяток-другой лет погодить. Молчание воспринимали как знак согласия.
Наступила весна, подходил к концу первый год правления Димитрия, уже было призвано ополчение, ни много ни мало сто тысяч, и указано место сбора – Елец, уже было доставлено туда изрядное количество пушек и всякого припасу огненного, понятно было, что как минует весенняя распутица, с первыми летними днями и двинемся, а с кем воевать будем, по-прежнему оставалось неясным. Лишь самые умные предугадывали направление удара – Европа, а первой на пути стояла – Польша.
Впрочем, можно было и раньше догадаться. Ведь Димитрий отправил к хану крымскому посольство с посланием дружественным и с дарами обычными между добрыми соседями. То же и персидскому шаху Аббасу. В письме же султану турецкому заверял того, что маленькое недоразумение, случившееся во время правления отца Димитрия, никак не повлияло на его доброе отношение к нашему вечному другу и союзнику. То есть Димитрий всячески старался оградить себя от всяких неприятных неожиданностей с южной стороны.
Но самая важная примета заключалась в титуле, который Димитрий принял через несколько месяцев после восшествия на престол, – император. Для слуха Русского это слово – пустой звук, даже для меня, к титулам весьма чувствительного, не желает мое сердце наполняться гордостью при слове император, ему милее всего даже не царь – великий князь. Кстати, Димитрий никогда и не использовал титул императора в своих указах, а бояре при обращении к нему обычно говорили цесарь, в сущности то же, но царю созвучнее. Не больше он значил и для наших южных соседей. А вот для Европы…
Что ж, для Европы и писалось, Димитрий даже имя свое изменил на европейский лад – император Деметриус. Известив дворы европейские о принятии им нового титула, Димитрий сразу поставил себя выше всех властителей, он бросил им вызов – подчинитесь! Короли, владетельные герцоги, сам Папа римский отмалчивались, не желая, с одной стороны, величать царя Русского императором, а, с другой стороны, понимая, что непризнание титула – обида смертельная и готовый повод к войне. Димитрий же нарочно их дразнил, в следующих посланиях он прибавил к своему титулу слово «непобедимый», ясно давая всем понять, что он не только готов к войне, но и стремится к ней.
Первой на его пути лежала Польша. Нет, Димитрий не собирался завоевывать ее силой оружия, страну эту за несколько лет жизни там он успел полюбить и не желал проливать братскую кровь. Он надеялся овладеть Польшей так же, как недавно овладел Русью, он намеревался повторить тот же путь, но в обратном направлении, из Москвы в Краков, из Кремля в Вавель.
И для этого были все условия. Поляки давно своим королем Сигизмундом недовольны были, с того самого момента, как стихли громогласные крики в честь его избрания. Нелюбезный, скупой, вечно надутый и постоянно чем-то недовольный, вдобавок ко всему истовый, непримиримый католик, и это в стране, в которой волею судеб население исповедовало четыре разные веры, не считая бессчетных ересей. Немудрено, что все больше людей обращали свои сердца к царю Московскому, молодому, деятельному, веселому и – веротерпимому. В пользу Димитрия действовала целая партия во главе со знатными шляхтичами братьями Стадницкими и Николаем Зебржидовским, из которых даже один старший Стадницкий, Станислав, прозвищем Дьявол, мог возмутить все королевство.
К ним-то и ездили постоянно поляки из Московского окружения Димитрия, им они возили деньги, отпускаемые Димитрием с присущей ему щедростью. За это Димитрия и осуждать нельзя, всем известно, что любой самый обширный заговор обходится дешевле самой маленькой войны. Но зачем же он рать такую сильную призывал, спросите вы. Только для вразумления неразумных и охлаждения голов горячих, которых в Польше предостаточно, отвечу я. Войско и шагу не должно было ступать в пределы польские, а стоять на границе, дожидаясь, пока дело закончится миром к всеобщему удовольствию. А дальше, слышу я нетерпение в вашем голосе. А чего обсуждать, что дальше-то было бы, коли и это, к сожалению, не свершилось?
Да, далеко я вперед забежал, от свершений Димитрия к планам его перешел, навсегда в голове его оставшимся. Надобно назад возвращаться.
* * *
Я вот все о делах рассказываю, а о том, как жил Димитрий, как страна при нем жила, и не говорю. Если одним словом, то – весело. Димитрий сам был человеком открытым и веселым и весельем своим весь двор заражал. Всегда что-нибудь придумывал. К застольям долгим и питию усердному пристрастен он не был, любил движение, музыку, танцы, поэтому часто старый дворец царский расцвечивался огнями, неслась из него разудалая музыка, преимущественно, польская, и мелькали кружащиеся в танце пары. Всякий день казался праздником. Постные лица Димитрий не любил и если замечал кого сумрачного на приеме своем, то велел вначале поднести ему большую чару с вином, если же и это не действовало, то виновный немедленно изгонялся из дворца.
Еще у Димитрия было странное пристрастие устраивать свадьбы слуг своих. Он даже пренебрег добрым старым обычаем запрещать браки наиболее опасным противникам. Престарелого князя Федора Мстиславского, долгие годы скорбевшего о том, что с ним пресечется их род, Димитрий женил на своей двоюродной тетке. Князю же Василию Шуйскому подыскал другую дальнюю родственницу Нагих, княжну Буйносову. Злые языки поговаривали, что сделано это с дальним умыслом, ведь пятнадцатилетняя княжна была на голову выше и в полтора раза шире своего жениха, тут-то князю и придет смерть неминучая.
Не только Двор веселился, но и простой народ. Народ всегда весел, когда в державе спокойно и сытно. А с воцарением Димитрия удивительная тишина наступила в Земле Русской, что было особенно заметно после голодных лет и междоусобной войны. И тем сильнее на фоне этой тишины раздавался веселый звон монет, ибо благодаря щедрости Димитрия денег в обращении было, как никогда, много и они быстро переходили из рук в руки, двигая и промыслы, и торговлю.
А еще жили – блестяще. Насколько Димитрий был умерен в питие и еде, настолько же он любил роскошь, впрочем, истинно царская черта. Тут, несомненно, сказались еще детские впечатления, убранство моего дворца в Угличе, небольшого, но изрядно украшенного, запало, как видно, в память мальчика и грезилось ему потом в темноте скромной монастырской кельи. Но особенно Димитрий любил драгоценности и, признаю, знал в них толк, поражая даже меня точностью своих оценок. Торговцы со всего мира, прослышав об этой страсти, стекались в Москву. Даже принцесса Анна, сестра Сигизмунда, прислала ларчик с драгоценностями, предлагая Димитрию купить их.
Димитрия и тогда, и позже обвиняли в расточительности, что-де слишком много драгоценностей покупал. Какая ж это расточительность? Это если боярам что в руки попадет, то пиши – пропало. А у царя все в казну царскую идет, там дьяки на любое колечко бирку навесят и в книги свои казначейские запишут. Помню, все, особенно иностранцы, восторгались новым престолом царским, изготовленным по рисункам самого Димитрия. Был он отлит из чистого золота, обвешан кистями алмазными и жемчужными, в основании его располагались два серебряных льва, а сверху он был покрыт крестообразно четырьмя богато украшенными щитами, над коими сиял золотой шар и искусно сделанный золотой орел. И где этот трон сейчас, хотел бы я знать. Или у бояр спросить?
Одевался Димитрий тоже пышно, хотя привычное Русское царское одеяние не любил, облачаясь в него только ради церемоний разных. Но оно действительно не рассчитано на такого порывистого молодого человека, в нем можно только шествовать степенно с двумя боярами по бокам, бережно поддерживающими под локти, а, скажем, на коня вскочить невозможно, никакая сноровка не поможет. Поэтому Димитрий предпочитал одежду короткую, облачаясь попеременно то в Русский кафтан, то в польский кунтуш. Вслед за царем и все жители Московские, и знатные, и незнатные, старались блеснуть одеждой богатой, к немалой радости купцов Московских и к усладе глаз, ведь разноцветные наряды толпы весьма украшали улицы столицы.
* * *
Я остановил, потому что мне неожиданная мысль в голову пришла. Царствование Димитрия напомнило мне первые годы правления царя Бориса. Как ни ненавидел его Димитрий, а многое делал похоже, можно сказать, продолжал его дело. С другой стороны, чему удивляться? Они оба для блага державы старались, только об ее величии и думали, потому и шли в одном, правильном направлении.
Без различий, конечно, не обходилось. Вот идете вы по дороге, вдруг перед вами завал вырастает, один его слева обойдет, другой справа, а иной и напрямки ломанется. Это от привычки и от натуры зависит. Главное, что общее направление выдерживают, остальное – детали.
Но верно говорят, что дьявол в деталях прячется. Димитрий, уделяя излишнее, быть может, внимание одним мелочам, совсем забывал о других, весьма существенных. Это было его единственным недостатком, но и недостаток этот был лишь продолжением его достоинств, произрастал из кипучей натуры и всех обстоятельств предыдущей жизни.
Царь Борис при дворе вырос, он настолько свыкся с обычаями, что и помыслить не мог их нарушить, особенно, в мелочах, которые тело само исполняет, без участия головы, это, к примеру, как на храм Божий перекреститься, бывает, едешь, мыслями вдаль уносишься и вроде бы даже по сторонам не смотришь, а рука сама ко лбу подымается. Димитрий же вознесся на престол Русский стремительно, неожиданно не только для окружающих, но отчасти и для самого себя. О каких-то обычаях он просто не знал, какие-то его раздражали и он, не задумываясь о последствиях, легко нарушал их. Что же ему люди опытные, его окружавшие, не подсказали, спросите вы. Почему же, подсказывали, и Димитрий не чурался умный совет выслушать, вот только времени у него на это почти никогда не находилось. Он всегда спешил и этим удивительно походил на своего деда и отца. Как будто, как и они, чувствовал, что судьба отпустила ему немного времени, и потому старался сделать как можно больше.
А торопливость не в Русском обычае, мы все делаем неспешно, степенно, после раздумий основательных. Я вот часто ругал бояр за их медлительность и неповоротливость, но, право, есть вопросы, которые надо обсуждать вдумчиво, заходя с разных сторон, аккуратно взвешивая все доводы за и против. И даже приняв решение, отложить его на какое-то время в сторону, пусть вылежится. Лишь после этого бояре представляли царю готовый указ для высочайшего утверждения.
Димитрий, конечно, такого стерпеть не мог. Присутствуя с первого дня на заседаниях Думы боярской, он быстро вникал в суть вопроса, наскоро выслушивал мнения бояр и тут же сам предлагал решение. Нарушая предписанную царю обычаем роль молчаливого судии, говорил при этом много и складно, любил ссылаться на Священное Писание, которое знал досконально, и на примеры исторические. Бояре по прошествии времени и сами удивлялись меткости его решений, но на Думе сидели насупившись, недовольные таким попранием древнего обычая. И еще зря Димитрий так часто ссылался на виденное в Польше и Литве, совсем это было ни к чему.
А еще любил Димитрий вникать в дела, царю не подобающие. Царю вообще мало во что подобает вникать, не царское это дело. Вот, скажем, строительство нового царского дворца. Место для строительства еще можно указать, а более ничего. Пусть строят, не понравится, всегда можно приказать снести и построить заново. Димитрий же сам весь Кремль исходил, выбирая место для дворца, и определил ему быть на холме у Кремлевской стены, со стороны Москвы-реки. Долго втолковывал зодчему, чего он хочет, показывал ему на месте, где будут стоять его палаты, а где палаты будущей царицы, и как они должны выглядеть, даже что-то рисовал на бумаге. И хотя предпочитал он дома каменные, дворец приказал строить деревянный, так быстрее.
Но и этим не ограничился, чуть ни каждый день стройку навещал, давал указания, какими тканями шелковыми покрывать стены, какими изразцами цветными обкладывать печи, какие решетки серебряные ставить на те же печи и замки позолоченные на двери. От нового дворца спешил в дворцовые мастерские. Задавал вопросы портным, шившим одеяния царские и форму для гвардии его, плотникам, изготавливающим мебель для нового дворца, бронщикам, ковавшим кирасы для царских телохранителей, оружейникам, изготавливающим оружие, бывал и на монетном дворе, и в ювелирной мастерской, следя за изготовлением новых корон для себя и для будущей царицы.
При такой жизни никаких часов в дне не хватит, потому Димитрий никогда не ложился спать после обеда. Это испытание было, наверно, самым тяжелым для бояр и Двора в его царствование, глаза-то после обеда сами закрываются и голова набок падает, ан нет, изволь сопровождать царя, куда его ноги понесут, тут один обычай с другим сталкивался, побеждал, как положено, царь.
«И ведь нет чтобы выехать степенно, на лошади смирной, а еще лучше в карете, проехаться, так и быть, по улицам Московским или по окрестностям, если уж такая блажь напала, – вздыхали бояре, – а этот все норовит сам на жеребца горячего вскочить и с места в галоп. Или вот охота, – продолжали они, – истинно царское дело, особенно соколиная. И глазу приятная, и безопасная. Но зачем же на медведя с рогатиной идти?! Медведь же не знает, кто против него стоит, вдруг беда случится?»
Можете представить, какие муки испытывали бояре, видя государя своего, всего в копоти пороховой, стоящего с зажженным фитилем у пушки. И подлинный ужас овладевал ими при штурмах крепости, что Димитрий для обучения войска под Москвой построил. Димитрий ведь частенько сам лез на стены, предводительствуя воинами своими, и вступал в схватку нешуточную с защищавшимися. Как ни ловок он был, а попадал иногда под чью-нибудь горячую руку, один раз от тумака крепкого со стены сверзился, видно, кто-то, как тот медведь, в запале не разобрал, что перед ним царь стоит. Бояре кинулись к царю, ожидая самого страшного и одновременно грозя казнью лютой всем, кто в этот момент на стене находился, а Димитрий вскочил, как ни в чем не бывало, встрепенулся, отряхнулся и опять на стену полез.
Мне иногда казалось, что Димитрий нарочно некоторые обычаи нарушал. Хотел он встряхнуть немного сонное Русское царство, и это ему удалось. Что же до обычаев дедовских, то их я почитаю, как, вероятно, никто другой в державе нашей. Но и я понимаю, что обычаи потихоньку меняются, какие-то отмирают, им на смену другие приходят. Возможно, Димитрию и удалось бы привить народу нашему какие-то новые обычаи, если бы выпало ему лет двадцать правления, чтобы новое поколение успело вырасти. Молодые-то смотрели на него влюбленными глазами. Да и как его было не любить?!