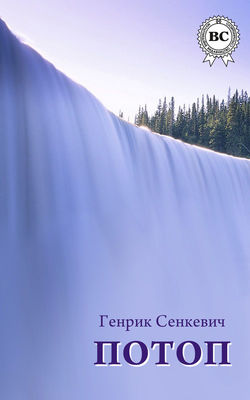Читать книгу Потоп - Генрик Сенкевич - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
VII
ОглавлениеПан Володыевский, славный и опытный воин, хотя и молодой еще, жил пока в Пацунелях у Пакоша Гаштофта, пацунельского патриарха, пользовавшегося репутацией первого богача из всей ляуданской мелкой шляхты. Действительно, своим трем дочерям, вышедшим замуж за Бутрымов, он дал по сто талеров деньгами и столько серебра и всякого добра, что многие девушки, принадлежащие к значительным домам, не могли бы пожелать большего. Остальные три дочери были дома и ходили за Володыевским, здоровье которого то поправлялось, то ухудшалось. Вся шляхта очень беспокоилась о его руке, ибо видела ее в деле под Шкловом и Шепелевом и вывела заключение, что лучшую трудно найти во всей Литве. Поэтому молодой полковник пользовался необыкновенным уважением и любовью. Гаштофты, Домашевичи, Госцевичи, Стакьяны, а за ними и все другие то и дело посылали в Пацунели рыбу, грибы, дичь, сено для лошадей и деготь для экипажей, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не нуждались. Когда ему становилось хуже, то все наперебой скакали в Поневеж за фельдшером, – словом, все хотели оказать ему какую-нибудь услугу.
Володыевскому было так хорошо, что хотя в Кейданах он мог бы пользоваться большими удобствами и лечиться у знаменитого врача, но он предпочитал жить у Гаштофта, чему тот был несказанно рад и чуть не сдувал с него каждую пылинку, ибо пребывание в его доме такого знаменитого гостя, который мог бы оказать честь и самому Радзивиллу, усиливало его значение на Ляуде.
После изгнания Кмицица шляхта, очарованная Володыевским, решила его женить на панне Александре. «Зачем нам искать по свету мужа для нее, – говорили старики на состоявшемся с этой целью совещании. – Раз тот изменник опозорил себя такими бесчестными поступками, то и панна наша должна выбросить его из своего сердца, ибо об этом говорится и в завещании. Пусть на ней женится Володыевский. Как опекуны, мы можем разрешить ей такое замужество, ибо она приобретает достойного мужа, а мы – вождя».
Когда вопрос этот был решен, старики поехали сначала к Володыевскому; тот, недолго думая, согласился на все; потом они поехали к панне, которая, не раздумывая, решительно отказала. «Любичем, – сказала она, – мог распоряжаться только покойный дедушка, и имение это может быть отнято у Кмицица лишь по решению суда, а что касается моего замужества, то о нем и не говорите. У меня слишком тяжело на душе, чтобы думать о чем-нибудь подобном. От того я отказалась, а этого лучше не привозите, я к нему даже не выйду».
Услышав такой решительный отказ, шляхта вернулась домой опечаленная; гораздо меньше огорчился сам Володыевский, а еще меньше молодые дочери Гаштофта: Тереза, Мария и София. Это были высокие, сильные, румяные девушки, с волосами как лен и глазами как незабудки. Вообще, пацунельки славились своей красотой; когда они шли вместе в церковь, их можно было сравнить с цветами на лугу. Старик Гаштофт ничего не пожалел для их образования. Органист из Митрун научил их читать, петь церковные песни, а старшую даже играть на лютне. Добрые по природе, они взяли под свою опеку больного Володыевского и прилагали все старания, чтобы облегчить его страдания. Говорили даже, что Мария влюбилась в молодого рыцаря, но этот слух был не совсем верен, ибо все три были в него по уши влюблены. Он их тоже очень любил, особенно Марию и Софию, так как Тереза постоянно упрекала мужчин в измене и непостоянстве.
Бывало, в длинные зимние вечера старый Гаштофт, выпив лишний ковшик крупника, ляжет спать, а они сядут с Володыевским у камина: Тереза прядет, Марыня щиплет перья, а Зося наматывает нитки. Но только лишь Володыевский начинал рассказывать о войнах, в которых он принимал участие, или о диковинках, которые ему случалось видеть в разных магнатских домах, работа сейчас же прекращалась, и молодые девушки слушали, не спуская с него глаз, а по временам вскрикивали от удивления: «Ну, и чудеса же бывают на свете, милые вы мои!» А другая прибавит: «Всю ночь я глаз не сомкну».
Володыевский чем больше выздоравливал, тем становился все веселее и все охотнее рассказывал о своих приключениях. Однажды вечером они, по обыкновению, сидели у камина, яркое пламя которого освещало темную комнату, но не прошло и минуты, как молодые люди начали спорить. Девушки хотели, чтобы он им что-нибудь рассказал, а он просил Терезу спеть.
– Вы сами спойте, ваша милость, – ответила девушка, отталкивая инструмент, который ей принес Володыевский, – у меня работа. Бывая в свете, вы должны были научиться всяким песням.
– Конечно, научился. Ну хорошо. Сперва спою я, а вы после меня. Работа не пропадет. Если бы вас просила какая-нибудь женщина, вы бы, наверно, не стали спорить.
– С вами так и надо.
– Разве вы и меня презираете?
– Вы – другое дело. Да уж пойте, ваша милость.
Володыевский состроил смешную гримасу и запел фальшивым голосом:
В сих краях живу далеких
Я, несчастлив и уныл…
Ни одной из чернооких
В сих краях не стал я мил…
– Это неправда! – прервала Марыся, покраснев, как вишня.
– Это наша солдатская песенка; мы ее пели на зимних квартирах, чтоб тронуть чье-нибудь доброе сердце.
– Я бы первая сжалилась.
– Спасибо вам, ваць-панна! Если так, то нечего мне продолжать, а лучше передать инструмент в более достойные руки.
Тереза на этот раз не оттолкнула инструмента, так как ее тронула песня Володыевского, в которой на самом деле было более хитрости, нежели правды; она тотчас же ударила по струнам и запела:
Эй, панна, смотри не ходи на свиданье,
Эй, панна, мужчине не верь до венчанья…
Володыевский так развеселился, что хватился за бока и воскликнул:
– Неужели все мужчины изменники? А военные, ваць-панна?
Тереза надула губки и запела с удвоенной энергией:
Эти хуже всех, эти хуже всех.
– Не обращайте на Терезу внимания, она уж всегда такая, – сказала Мария.
– Как же мне не обращать внимания, если панна Тереза оскорбила все воинское сословие, и я не знаю, куда деться от стыда.
– Вы просили, чтобы я пела, а теперь смеетесь надо мной, – ответила Тереза обиженным тоном.
– Я не пения касаюсь, но смысла вашей песни, ибо в ней задета честь всех военных; что же касается вашего голоса, то лучшего я не слышал даже в Варшаве. Вас бы только одеть в панталончики, и вы могли бы с успехом петь в кафедральном костеле Святого Иоанна, где бывают их величества.
– А для чего же ей одевать панталончики? – спросила с любопытством панна Зося.
– Там в хоре женщины не поют, а лишь мужчины и мальчики, одни поют такими грубыми голосами, как ни один бык не зарычит, а другие – так тонко, точно скрипка. Я их не раз слышал, когда мы с незабвенным воеводой русским[7] ездили на коронацию теперешнего нашего короля. Просто дух захватывает. Там музыкантов много, например: Форстер, Капула, Джан Батиста, Элерт, Марк и композитор Мельчевский. Как они запоют все вместе, то кажется, будто слышишь наяву хор серафимов.
– Это верно, клянусь Богом, – воскликнула Марыся, всплеснув руками.
– А короля вы много раз видели? – спросила Зося.
– Я разговаривал с ним так, как вот теперь с вами. После одного удачного сражения он меня обнял. Он так добр и милостив, что, увидев его однажды, нельзя его не полюбить.
– Мы и не видев любим его. А что, он всегда носит на голове корону?
– Нужно бы иметь железную голову, чтобы носить ее постоянно. Корона хранится в костеле, чем усиливается и значение ее, а его королевское величество носит черную шляпу с брильянтами, блеск коих точно озаряет весь замок…
– Говорят, что королевский замок лучше даже кейданского.
– Что кейданский? Его и сравнивать с кейданским нельзя. Это огромное здание, все из камня, дерева нигде и не увидишь. Кругом два ряда покоев, один другого лучше… Стены расписаны масляными красками; на них изображены сцены из различных войн и победы королей, как то: Сигизмунда Третьего и Владислава. Глаз оторвать нельзя: они – точно сама действительность. Удивляешься, что все это не двигается и не говорит. Но этого не может представить даже самый лучший художник. Иные покои сплошь из золота; стулья и скамейки вышиты бисером или покрыты тафтой, столы из мрамора и алебастра… А зеркал, часов, показывающих время и днем, и ночью, – всего и на воловьей шкуре не выписать. Вот король с королевой по этим комнатам ходят и радуются, глядя на свои богатства, а вечером для развлечения идут в театр.
– Что такое театр?
– Как это вам объяснить?.. Такое место, где танцуют разные итальянские танцы и представляют комедии. Комната так велика, как церковь, и вся украшена колоннами. С одной стороны зрители, а с другой расставлены размалеванные полотна. Одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз; иные на винтах поворачиваются в разные стороны; перед собой вы видите тьму, тучи, то свет приятный, а наверху небо, и на нем солнце или звезды, внизу же страшный ад.
– О господи! – воскликнули девушки.
– И с чертями. Иногда безмерное море, а на нем корабли и сирены. Одни фигуры спускаются с неба, другие выходят из земли.
– А вот я ад не хотела бы видеть, – воскликнула Зося, – и дивлюсь, какая охота людям смотреть на такие ужасы.
– Они не только смотрят, но еще и в ладоши плещут от удовольствия, – продолжал Володыевский, – ибо все это не настоящее и от креста не исчезает. Здесь не злые духи представляют, а люди. Кроме их величеств бывают там епископы и разные другие лица, которые потом вместе с королем садятся за стол.
– А утром и днем они что делают?
– Это зависит от их настроения. Утром они ходят в ванну. Это такая комната – нет пола, а только блестящий, как серебро, цинковый ящик, а в нем вода.
– Вода в комнате… Да слыхано ли это?
– Да, вода. Ее можно, по желанию, прибавить или убавить; воду можно сделать горячей или холодной, ибо там проведены трубы с кранами. Вывернешь кран и наливай воды, какой хочешь и сколько хочешь. Можешь налить столько, что будешь плавать, как в озере. Ни у одного короля нет такого дворца, как у нашего, – это говорят и послы заграничные. Кроме того, ни один король не царствует над таким красивым народом, ибо хоть на свете и много есть разных красивых наций, но нашу Господь, по милосердию своему, больше всех одарил красотой.
– Счастлив наш король, – вздохнув, сказала Тереза.
– Конечно, он был бы счастлив, если бы не эти неудачные войны, которые губят Речь Посполитую за наши грехи и раздоры. За все отвечает король, и его же за наши грехи упрекают. А чем он виноват, если его не слушают? Тяжелые времена настали для нашей отчизны, столь тяжелые, каких еще никогда не бывало. Какой-нибудь ничтожный неприятель и тот смеет теперь идти против нас, которые до сих пор побеждали турецкого царя. Так-то Бог наказывает за гордость! Слава Ему, что моя рука уже действует, ибо пора, уже давно пора вступиться за дорогую отчизну. Грешно в такое время сидеть сложа руки.
– Вы только не вспоминайте о своем отъезде.
– Не может быть иначе. Хорошо мне здесь с вами, но в то же время и плохо. Пусть там умные на сеймах спорят, а солдату скучно, когда он не на войне. Поколе жив, он должен служить отчизне. А после смерти Бог, читающий в сердцах людей, больше всего наградит тех, кто не только ради одной славы служил отчизне… Но теперь уже таких мало, ибо настали для нас черные дни.
На глазах у Марыси показались слезы и наконец потекли по румяным щекам.
– Вы уедете и забудете нас, а мы здесь высохнем с тоски. Кто же будет здесь защищать нас в случае опасности?
– Уеду, но сохраню в сердце благодарность. Не часто встречаются такие люди, как в Пацунелях. А вы все еще боитесь Кмицица?
– Конечно, боимся. Им матери детей пугают, точно упырем.
– Он уже не вернется больше, а если и вернется, то не с теми шалопаями, что, по словам всех, были гораздо хуже его. Жаль, что такой хороший солдат так опозорил себя и утратил честь и состояние.
– И невесту.
– И невесту. Много хорошего говорят о ней.
– Она, несчастная, по целым дням теперь все плачет и плачет.
– Да ведь не Кмицица же она оплакивает, – возразил Володыевский.
– Кто знает? – сказала Марыся.
– Тем хуже для нее, ибо он уже не вернется; часть ляуданцев гетман отправил домой, – значит, и силы здесь есть. Они бы здесь и без суда с ним покончили. Он, верно, знает об их возвращении и носу сюда не покажет.
– Да, кажется, наши опять скоро уйдут, ибо их отпустили на очень короткий срок.
– Гетман их распустил потому, что у него денег нет, – ответил Володыевский. – Горе, да и только! В такое время, когда люди всего более нужны, их приходится вдруг отсылать… Ну, доброй ночи, ваць-панны, пора спать. Желаю вам увидеть во сне Кмицица с огненным мечом.
Сказав это, Володыевский встал со скамейки и пошел было в спальню, но едва он сделал несколько шагов, как из сеней донесся отчаянный крик:
– Ради бога, отворите, скорее.
Девушки перепугались, а Володыевский побежал за саблей, но не успел он еще вернуться, как в комнату вбежал незнакомый человек и бросился перед рыцарем на колени.
– Спасите, помогите, пане полковник… Нашу панну похитили…
– Какую панну?
– Из Водокт.
– Кмициц! – воскликнул Володыевский.
– Кмициц! – закричали девушки.
– Кмициц! – повторил посланный.
– Кто же ты? – спросил Володыевский.
– Слуга из Водокт.
– Мы его знаем, – сказала Тереза, – он привозил вам лекарство.
В это время из-за печки вылез заспанный старик Гаштофт, а в дверях появилось двое слуг Володыевского, которые, услышав шум, прибежали в комнату…
– Лошадей, – крикнул Володыевский. – Один из вас пусть сейчас же бежит к Бутрымам, а другой пусть седлает мне лошадь.
– У Бутрымов я уже был, – ответил старик, – они ближе всего. Они меня к вашей милости и послали.
– Когда панну похитили? – спросил Володыевский.
– Только что. Там теперь бьют дворовых… а я вскочил на лошадь…
Старый Гаштофт спросил, очнувшись:
– Что? Панну похитили?
– Кмициц ее похитил, – сказал Володыевский. – Едемте на помощь.
Сказав это, он обратился к посланному:
– Ступай к Домашевичам и скажи им взять оружие и ехать в Водокты.
– Ну же, вы, козы! – вдруг крикнул Гаштофт дочерям. – Бегите на деревню и будите шляхту, пусть берутся за сабли. Панну похитил Кмициц… А?.. Господи помилуй!.. Разбойник, злодей… А?..
– Давайте и мы будить, – сказал Володыевский, – это будет скорее… Идемте. Лошади, кажется, уже поданы.
Через минуту они сели на лошадей, а с ними двое слуг: Огарек и Сыруц. Все поехали по дороге, между изб, стучали в двери, в окна и кричали что есть мочи:
– За сабли, за сабли! Панну похитили! Кмициц в Водоктах!
Услышав крик, все выбегали из избы и, поняв, в чем дело, сами начинали кричать: «Кмициц в Водоктах! Панну похитили!» – и с этим бежали седлать лошадь или в избу искать саблю. Все большее количество голосов повторяло: «Кмициц в Водоктах». Поднялась суматоха; в окнах замелькал свет, раздавался плач женщин, лай собак. Наконец шляхта тронулась в путь, кто на лошадях, кто пешком. Над массой человеческих голов в темноте блестели сабли, пики, рогатины и даже железные вилы.
Пан Володыевский, окинув глазами весь этот отряд, сейчас же разослал несколько человек в разные стороны, а сам с остальными отправился вперед.
Верховые ехали впереди, а за ними шли пешие. Все они направлялись к Волмонтовичам, чтобы присоединиться к Бутрымам. Те из шляхты, что вернулись от воеводы, сейчас же построились в ряды; другие, особенно пешие, шли не так исправно, шумели оружием, болтали, громко зевали и, наконец, ругали на чем свет стоит Кмицица, нарушившего их покой. Так они дошли до Волмонтовичей, где встретились с вооруженным отрядом.
– Стой! Кто едет? – послышались оттуда голоса.
– Гаштофты.
– А мы Бутрымы. Домашевичи тоже здесь.
– Кто вами командует? – спросил Володыевский.
– Юзва Безногий… К услугам вашей милости.
– Имеете известия?
– Он ее увез в Любич, куда проехал по болотам, чтобы миновать Волмонтовичи.
– В Любич? – спросил с удивлением Володыевский. – Неужели он там считает себя в безопасности? Ведь Любич не крепость.
– Вероятно, рассчитывает на свои силы. С ним двести человек. Верно, хочет увезти из Любича имущество, с ним много телег и лошадей. Нужно полагать, что он не знал о нашем возвращении, иначе не решился бы так смело действовать.
– Наше счастье! – сказал Володыевский. – Теперь он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?
– У нас, Бутрымов, ружей тридцать, а у Домашевичей вдвое больше.
– Хорошо. Возьмите пятьдесят человек и закройте проход к болотам. Только живее! Остальные пойдут со мной. Не забудьте захватить топоры.
– Все будет исполнено!
Началось движение: маленький отряд под командой Юзвы Безногого пошел к болотам.
В это время приехали и остальные Бутрымы, которых Володыевский послал созывать шляхту.
– Госцевичей не видно? – спросил Володыевский.
– А, это вы, пане полковник? Слава богу! – воскликнули Бутрымы. – Госцевичи уже идут; они теперь должны быть в лесу. Вам ведомо, что он увез барышню в Любич?
– Да. Недалеко он уйдет.
Действительно, Кмициц не предвидел одной опасности: он не знал о том, что большая часть шляхты вернулась, и думал, что вся округа пуста, как во время его первого приезда в Любич. Но оказалось, что, не считая Стакьянов, которые не могли подойти вовремя, Володыевский вел против него около трехсот опытных в военном деле людей.
Шляхты в Волмонтовичи прибывало все больше и больше. Наконец пришли и Госцевичи, которых давно ждали. Володыевскому не стоило никакого труда привести их в надлежащий порядок, и это ему доставило большое удовольствие. С первого же взгляда в них можно было узнать настоящих солдат, а не обыкновенную беспорядочную шляхту. Это радовало Володыевского особенно потому, что ему вскоре предстояло идти с ними на серьезное дело.
Они пошли к Любичу тем же лесом, через который проезжал Кмициц. Было уже далеко за полночь. Взошла луна и осветила лес, дорогу и отряд, шедший по ней, бросала свои бледные лучи на острия пик, отражалась на блестящих саблях. Шляхта переговаривалась потихоньку о необыкновенном событии, заставившем ее покинуть свои дома.
– Здесь шатались всякие люди, – говорил один из Домашевичей, – мы думали, что это беглые, а это, верно, были его разведчики.
– Конечно. Каждый день какие-то незнакомые нищие приходили в Водокты, будто за милостыней, – прибавил другой.
– А что за люди у Кмицица?
– Дворовые из Водокт говорят, что казаки. Он, верно, снюхался с Хованским или Золотаренкой. До сих пор был только разбойником, а теперь стал изменником…
– Как же он мог привести сюда казаков?
– Первый попавшийся отряд мог их остановить.
– Во-первых, они могли идти лесом, а во-вторых, мало ли наших магнатов со своими казаками разъезжает… Кто их отличит от неприятеля?
– Он будет защищаться до крайности; это храбрый, решительный человек, но наш полковник сумеет с ним справиться.
– Бутрымы тоже поклялись, что он не уйдет отсюда живым, хоть бы для этого им пришлось всем лечь костьми.
– Если мы его убьем, то с кого требовать вознаграждения за убытки? Лучше поймать его живым и отдать в руки правосудия.
– Не время теперь о судах думать, когда все потеряли голову. Разве вы не слышали, что нам предстоит еще война со шведами?
– Господи, спаси и сохрани! Московская сила, Хмельницкий! Шведов только недоставало, тогда уж придут последние дни для Речи Посполитой.
Вдруг Володыевский, ехавший впереди, повернулся к ним и сказал:
– Тише, Панове!
Шляхта умолкла, вдали показался Любич. Через четверть часа они подъехали не дальше чем на полверсты. Все окна были освещены, а на дворе виднелась масса вооруженных людей и лошадей. Нигде не было стражи, не было принято никаких предосторожностей. По-видимому, Кмициц был слишком уверен в своей силе. Подъехав ближе, Володыевский сразу узнал казаков, с которыми ему пришлось не раз воевать, сначала при жизни великого Еремии, а потом под начальством Радзивилла, и пробормотал:
– Если это неприятельские казаки, то этот бездельник хватил уж через край.
Он остановил свой отряд и стал присматриваться. На дворе была страшная суета. Одни казаки держали зажженные факелы, другие бегали во все стороны: то входили в дом, то опять выходили, выносили вещи, укладывали тюки на телеги; другие выводили лошадей из конюшен, скот из сараев; со всех сторон раздавались крики, приказания. Вся эта картина напоминала переезд арендатора в новое имение.
Христофор, старший из Домашевичей, подъехал к Володыевскому.
– Пан полковник, – сказал он, – похоже на то, что они хотят весь Любич уложить на телеги.
– Не вывезут, – ответил Володыевский, – не только Любича, но и своей шкуры. Я совершенно не узнаю Кмицица: ведь он опытный солдат, а нигде не поставил стражи.
– Он уверен в своей силе; у него, должно быть, будет более трехсот человек. Если бы мы не вернулись, то он мог бы среди бела дня проехать с возами через все деревни.
– Хорошо! – сказал Володыевский. – А есть ли еще другая дорога к дому или только эта одна?
– Только эта, а дальше пруд и болота.
– Это хорошо! Сойдите с лошадей!
Шляхта поспешила исполнить приказание; затем, образовав длинную цепь, она окружила дом со всех сторон.
Володыевский с главным отрядом подошел к воротам.
– Ожидать команды! – сказал он тихо. – Не стрелять, пока не прикажу!
Лишь несколько десятков шагов отделяли шляхту от ворот, когда их заметили со двора. Несколько человек сейчас же вскочили на забор и, перегнувшись через него, стали всматриваться в темноту, а грозные голоса спросили:
– Эй, что за люди?
– Стой! – крикнул Володыевский. – Огня!
Из всех имевшихся у шляхты ружей грянули выстрелы, а вслед за ними снова раздался голос Володыевского:
– Бегом!
– Бей, режь! – крикнули ляуданцы, бросившись вперед, как поток.
Казаки тоже ответили выстрелами, но зарядить во второй раз уже не успели. Шляхта налегла на ворота, и под ее могучим напором они рухнули. Впереди стеной шли великаны Бутрымы, самые опасные в рукопашном бою. Шли, как стадо разъяренных буйволов, ломая, давя, уничтожая и рубя все на своем пути, а за ними следовали Домашевичи и Госцевичи.
Солдаты Кмицица храбро защищались; из-за телег и тюков, из окон дома и с крыши раздались выстрелы, но редкие, потому что факелы погасли, и трудно было отличить своих от неприятелей. Несколько минут спустя казаков оттеснили к дому и к конюшням. Раздались крики о пощаде. Шляхта торжествовала.
Но когда она осталась на дворе одна, во всех окнах показались дула ружей, и град пуль посыпался на двор. Большая часть казаков спряталась в доме.
– К дому, к дверям! – крикнул Володыевский.
Действительно, у стен выстрелы не могли им причинить никакого вреда. Но положение их было довольно тяжелое. О штурме окон нечего было и думать, так как их встретили бы выстрелами в упор, и Володыевский велел рубить двери.
Но это было нелегко исполнить, так как двери были сделаны из толстых Дубовых крестовин, покрытых сплошь огромными гвоздями, от которых зазубривались топоры, прежде чем успевали вонзиться в дерево. Самые сильные мужики напирали время от времени, плечами, но напрасно. Двери с внутренней стороны были заперты железными болтами, да, кроме того, их подперли кольями. Но Бутрымы рубили бешено. Кухонную дверь штурмовали Домашевичи и Госцевичи.
После часа тщетных усилий их сменили другие. Некоторые крестовины вывалились, но на их месте показались ружейные дула. Снова раздались выстрелы. Двое Бутрымов упали с простреленной грудью. Но остальные не растерялись и стали рубить с еще большим ожесточением.
Образовавшиеся отверстия, по команде Володыевского, заткнули кафтанами. В это время со стороны дороги раздались голоса: это Стакьяны спешили на помощь своим братьям, а за ними вооруженные мужики из Водокт.
Прибытие новых подкреплений, очевидно, встревожило осажденных – из-за двери послышались голоса:
– Стой, не руби, слушай! Да постой же, черт… Поговорим.
Володыевский велел прекратить работу и спросил:
– Кто говорит?
– Оршанский хорунжий Кмициц, – послышался ответ. – А вы кто?
– Полковник Михал-Юрий Володыевский.
– Челом вам, – отозвался голос из-за дверей.
– Не время любезничать… Скажите, что нужно?
– Мне бы следовало вас об этом спросить. Вы не знаете меня, а я вас. С какой стати вы на меня нападаете?
– Изменник! – крикнул Володыевский. – Со мной вернувшиеся с войны ляуданцы, а у них с тобою счеты за разорение, за безвинно пролитую кровь и ту панну, которую ты сейчас похитил. Знаешь, что тебя ожидает? Ты не уйдешь отсюда живым.
Наступило минутное молчание.
– Ты бы меня не назвал во второй раз изменником, – заговорил опять Кмициц, – если б не дверь, которая нас отделяет.
– Так отопри ее… я тебе не запрещаю.
– Не одна ляуданская собака ноги протянет, прежде чем вы возьмете меня живым.
– Так мы тебя мертвого за ноги вытащим. Нам все равно.
– Слушайте, ваць-пане, и запомните то, что я вам скажу. Если вы нас не оставите в покое, у меня наготове бочонок пороху: я взорву дом, а с ним и всех, кто здесь. Клянусь Богом, что я это сделаю. А теперь берите меня, если хотите.
На этот раз воцарилось долгое молчание. Володыевский напрасно искал ответа. Шляхта с испугом переглядывалась. Столько было дикой энергии и решимости в словах Кмицица, что они ни на минуту не усомнились в их правдивости. Вся победа могла рухнуть от одной искры, а вместе с тем и панна будет потеряна навсегда.
– Что нам делать? – пробормотал один из Бутрымов. – Это сумасшедший человек. Он готов исполнить свою угрозу.
Вдруг у Володыевского явилась счастливая, как ему казалось, мысль.
– Есть еще способ, – воскликнул он. – Выходи, изменник, на поединок со мной. Убьешь меня, – уезжай себе с Богом, никто тебя не тронет.
Некоторое время ответа не было. Сердца ляуданцев тревожно бились.
– На саблях? – спросил наконец Кмициц. – Можно!
– Можно, если ты не трусишь.
– И вы дадите честное слово, что я уеду свободно?
– Даю.
– Этого никак нельзя! – крикнул Бутрым.
– Тише, черт вас дери! – крикнул Володыевский. – А если вы не хотите, то пусть он взрывает и себя, и вас.
Бутрымы замолчали, а минуту спустя один из них сказал:
– Пусть будет по-вашему.
– А что, – спросил насмешливо Кмициц, – лапотники согласны?
– И поклянутся на мечах, если угодно.
– Пусть поклянутся.
– Ко мне, Панове, ко мне! – крикнул Володыевский шляхте, стоявшей под стенами дома.
Через несколько минут все собрались у входной двери, и весть, что Кмициц хочет взорвать дом, так их ошеломила, что они как будто окаменели и не могли произнести ни слова; вдруг среди этой гробовой тишины раздался голос Володыевского:
– Всех вас, панове, беру в свидетели, что я вызвал оршанского хорунжего пана Кмицица на поединок с условием, что если он одолеет меня, то может беспрепятственно уехать отсюда, в чем вы поклянетесь на рукоятках сабель всемогущим Богом и святым его Евангелием.
– Погодите, – крикнул Кмициц, – уеду беспрепятственно со всеми людьми и панной.
– Панна останется, а люди пойдут в плен к шляхте.
– На это я не согласен.
– Ну так взрывай дом! Панну мы уже оплакали, а что касается людей, то спросите их, что они предпочитают.
Снова наступила тишина.
– Пусть и так будет, – сказал наконец Кмициц. – Не удалось похитить ее сегодня, удастся – в другой раз. Вы ее даже и под землей от меня не скроете. Клянитесь!
– Клянитесь! – повторил Володыевский.
– Клянемся всемогущим Богом и святым его Евангелием. Аминь.
– Выходите же наконец! – сказал Володыевский.
– Вы торопитесь на тот свет?
– Хорошо, хорошо, только скорей.
Лязгнули железные болты, подпиравшие двери изнутри.
Пан Володыевский отодвинулся, а за ним и вся шляхта, чтобы очистить место. Дверь тотчас отворилась, и в ней показался пан Андрей высокий, стройный, как тополь. На дворе уже светало, и первые бледные лучи дня упали на его молодое, воинственное, гордое лицо. Остановившись в дверях, он смело взглянул на шляхту и сказал:
– Я верю вам, ваць-панове. Бог знает, хорошо ли я делаю, но не в этом дело. Который тут пан Володыевский?
Маленький полковник выступил вперед.
– Я, – ответил он.
– Хо-хо, а вы таки непохожи на великана, – сказал Кмициц, намекая на рост рыцаря, – я думал, что вы подороднее, а все ж видно, что вы опытный солдат.
– О вас я этого не скажу, ваць-пане: вы даже забыли расставить стражу. Если вы и деретесь так, то мне недолго придется трудиться.
– Где станем? – быстро спросил Кмициц.
– Здесь… двор гладок, как стол.
– Согласен, приготовьтесь к смерти.
– Вы так уверены, ваць-пане?
– Видно, вы в Оршанском не бывали, если в этом сомневаетесь. Я не только уверен, но мне жаль даже вас, пане: о вас я наслышан как о славном солдате. Потому я в последний раз говорю: оставьте меня в покое. Мы не знаем друг друга, к чему нам друг другу мешать? Чего вы от меня хотите? Девушка принадлежит мне по завещанию, как и имение, и Бог свидетель, что я только отстаиваю свое право. Правда, что я изрубил шляхту в Волмонтовичах, но Бог рассудит, кто кого раньше обидел. Были мои офицеры сорванцами или не были, это все равно, довольно того, что они здесь никому не сделали зла, а их перерезали всех до одного, как собак, из-за того, что они хотели потанцевать в корчме с девушками. Пусть же будет кровь за кровь. Потом еще перебили солдат. Клянусь Богом, что я ехал сюда не с дурными намерениями, а как меня приняли? Но пусть же будет обида за обиду. А убытки я вознагражу, еще своего прибавлю… по-соседски… Лучше так, чем иначе…
– А что за люди пришли теперь с ваць-паном? Откуда вы взяли таких помощников? – спросил Володыевский.
– Откуда взял, откуда взял! Я их привел не против отчизны, а ради своего личного дела.
– Так вот как? Ради личного дела вы соединились с неприятелем… А чем же заплатите за эту услугу, как не изменой? Нет, братец, я не мешал бы тебе поладить со шляхтой, но звать неприятеля на помощь – это другое дело. Теперь пустяками не отделаешься. Становись-ка, становись, я знаю, что трусишь, хотя и выдаешь себя за оршанского рубаку.
– Ты сам хочешь, – сказал Кмициц, становясь в позицию.
Но пан Володыевский не спешил и, не вынимая еще сабли, посмотрел на небо. Уже светало. Золотисто-голубая лента опоясала восток, но на дворе было еще довольно темно, особенно перед домом, там царил совершенный мрак.
– Хорошо начинается день, – сказал Володыевский, – но солнце взойдет еще не скоро. Может быть, вы хотите, чтобы нам принесли огонь?
– Мне все равно.
– Мосци-панове, – обратился Володыевский к шляхте, – сбегайте-ка за лучинами и факелами, нам будет светлее плясать этот оршанский танец.
Шляхта, которую очень ободрил шутливый тон полковника, живо побежала на кухню; некоторые стали собирать брошенные во время битвы факелы, и через несколько минут в бледном утреннем полумраке засверкало около пятидесяти огней. Пан Володыевский указал на них саблей Кмицицу.
– Смотрите, ваша милость, – настоящие похороны. А Кмициц ответил сразу:
– Полковника хоронят, без почестей нельзя…
– Ишь как кусается!
Между тем шляхта молча окружила рыцарей, все подняли вверх зажженные лучины, дальше разместились любопытные; посредине стали противники и смерили друг друга глазами. Наступила страшная тишина, и только угольки с обгорелых лучин падали с шипением на снег. Пан Володыевский был весел, как щегленок в погожее утро.
– Начинайте, – сказал Кмициц.
Первый звон сабель отозвался эхом в сердцах всех зрителей. Пан Володыевский взмахнул как бы нехотя. Кмициц отбил удар и тоже ударил. Володыевский снова отбил. Сухой лязг слышался все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с бешенством, пан Володыевский заложил левую руку за спину и стоял спокойно, делая небрежные, почти незаметные движения рукой; казалось, что он хочет только защитить себя и вместе с тем щадит противника; порой он отступал на шаг, порою делал шаг вперед, – он, видно, изучал искусство Кмицица. Тот волновался, этот был холоден, как учитель, который испытывает ученика, и становился все спокойнее; наконец, к величайшему изумлению шляхты, он заговорил:
– Поболтаем, чтобы не было скучно. Ага, это оршанские приемы; видно, вы там сами горох молотите, размахиваете саблей, как цепом. Ну и устанете вы. Неужели вы лучший рубака в Оршанском?.. Такой удар только у писарей в моде… Это курляндский… им хорошо от собак отмахиваться. Присматривайте за концом сабли. Не выгибайте так ладони, не то смотрите, что может случиться… Поднимите…
Последние слова Володыевский произнес отчетливо, и в то же время, описав дугу, он притянул саблю к себе и прежде, чем присутствующие могли понять, что значит «поднимите», сабля Кмицица, как выдернутая из нитки игла, сверкнула над головою Володыевского и упала за его спиной, а он сказал:
– Это называется вышибать саблю!
Кмициц стоял бледный, с блуждающими глазами, пораженный не менее ляуданской шляхты; а маленький полковник отошел в сторону и, указывая на лежащую на земле саблю, повторил:
– Поднимите!
Была минута, когда казалось, что Кмициц бросится на него.
Он уже готовился сделать прыжок, но Володыевский, прижав к груди рукоятку, вытянул вперед острие; Кмициц схватил саблю и бросился на страшного противника.
Среди шляхты послышался громкий шепот, круг суживался все более и более, за ним образовался второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между головами шляхты, точно жили с ними всегда в вечной дружбе. Невольные крики восторга и удивления срывались с уст зрителей; порой раздавался неудержимый взрыв нервного хохота, все узнали мастера своего дела.
А тот играл со своим противником, как кот с мышью, и делал все более небрежные движения саблей; левую руку засунул в карман штанов. Кмициц метался, скрежетал зубами, наконец, сквозь стиснутые зубы у него вырвались хриплые слова:
– Кончайте… пане… Спасите от позора…
– Хорошо, – ответил Володыевский.
Послышался короткий, страшный свист, потом сдавленный крик… Кмициц распростер руки, сабля упала на землю… и он рухнул лицом вниз, к ногам полковника.
– Жив, – сказал Володыевский, – не на спину упал.
Шляхта зашумела, и в этих криках все чаще слышалось:
– Добить изменника… Добить… Зарубить…
И несколько Бутрымов бросились с обнаженными саблями. Вдруг произошло что-то необыкновенное; казалось, будто маленький полковник вырос на глазах, сабля одного из Бутрымов вылетела у него из рук, точно подхваченная ветром, а Володыевский крикнул со сверкающими глазами:
– Не трогать! Прочь!.. Теперь он мой, а не ваш… Прочь!..
Все умолкли, боясь гнева этого человека, а он сказал:
– Я резни не допущу… Как шляхта, вы должны знать рыцарский обычай – лежачего не бьют. Так не поступают даже с неприятелем, а тем более с противником, побежденным на поединке.
– Он – изменник! – пробормотал один из Бутрымов. – Такого надо бить.
– Если он изменник, то должен быть отдан в руки пана гетмана и будет наказан по заслугам. Наконец, я вам сказал, он теперь мой, а не ваш. Если он останется жив, то вы можете требовать с него судом вознаграждения за убытки и обиды. Кто из вас умеет перевязывать раны?
– Христофор Домашевич. Он с давних пор всех лечит.
– Пусть он сейчас же сделает перевязку, потом вы перенесете его на постель, а я пойду успокоить несчастную панну.
И Володыевский, сунув саблю в ножны, вошел через изрубленную дверь в дом. Шляхта начала ловить и вязать казаков, которые с сегодняшнего дня должны были пахать у них землю. Они даже не сопротивлялись; лишь несколько человек выскочили в противоположные окна дома, но и те попали в руки карауливших там Стакьянов. Вместе с тем шляхта принялась грабить нагруженные телеги, на которых было немало всякого добра, некоторые советовали разграбить и дом, но боялись Володыевского, а может быть, и присутствие панны Александры Биллевич заставило их отказаться от этой мысли. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, положили на возы, чтобы похоронить по христианскому обряду, а для казаков велели вырыть одну большую могилу за садом.
Володыевский искал девушку по всему дому и наконец нашел ее в кладовой, куда вела маленькая дверь из спальни. Это была небольшая квадратная комната с узкими решетчатыми окнами и такими толстыми стенами, что если б Кмициц и взорвал дом, то эта комната, без сомнения, уцелела бы. Это заставило его быть лучшего мнения о Кмицице. Панна сидела на сундуке, недалеко от двери, опустив голову, с лицом, почти совсем закрытым волосами. Услышав шаги рыцаря, она не пошевельнулась, – должно быть, думала, что это Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыевский остановился в дверях, снял шапку, откашлялся раз, другой, но, видя, что это не помогает, произнес:
– Вы свободны, ваць-панна!
Тогда из-под волос на него взглянули синие глаза, а затем поднялось и чудное, хоть очень бледное и точно безумное, лицо. Володыевский ожидал благодарности и проявления радости, но вместо этого девушка оставалась неподвижной и смотрела на него блуждающими глазами, и рыцарь сказал снова:
– Опомнитесь, ваць-панна, Бог сжалился над вами! Вы свободны и можете возвращаться в Водокты.
На этот раз взгляд панны Биллевич был более сознательным. Встав с сундука, она откинула назад волосы и спросила:
– Кто вы, ваць-пане?..
– Михал Володыевский, драгунский полковник виленского воеводы.
– Я слышала звуки битвы… выстрелы… Скажите…
– Да. Это мы пришли на помощь ваць-панне.
Девушка совсем пришла в себя.
– Благодарю вас, – ответила она тихим голосом, в котором слышалась тревога. – А что с тем случилось?
– С Кмицицем? Не беспокойтесь, ваць-панна, лежит без дыхания на дворе… Это, не хвастаясь, сделал я.
Володыевский произнес это с оттенком самодовольства, но если ожидал удивления, то сильно ошибся. Девушка не ответила ни слова, пошатнулась слегка и стала искать руками опоры, наконец, опустилась на тот же сундук, с которого только что поднялась. Рыцарь быстро подбежал к ней:
– Что с вами, ваць-панна?
– Ничего, ничего… Погодите… позвольте… Пан Кмициц убит?
– Что мне Кмициц! – перебил ее Володыевский. – Тут все дело в вас.
Вдруг силы ее вернулись, она опять встала и, взглянув ему прямо в глаза, крикнула с гневом, нетерпением и отчаянием:
– Ради бога, отвечайте: он убит?
– Пан Кмициц ранен, – ответил Володыевский с изумлением.
– Жив?
– Жив!
– Хорошо! Благодарю вас…
И, все еще шатаясь, она пошла к дверям. Володыевский простоял с минуту, шевеля усиками и качая головой, наконец пробормотал:
– Благодарила ли она меня за то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив? И пошел вслед за нею. Она стояла посреди спальни, как в оцепенении.
В эту минуту четыре шляхтича внесли Кмицица. Двое передних, шедших боком, показались в дверях, а между их рук свешивалось бледное лицо пана Андрея с закрытыми глазами и с запекшейся черной кровью в волосах.
– Осторожнее, – говорил шедший за ними Христофор Домашевич, – осторожнее через порог! Пусть кто-нибудь поддержит голову. Осторожнее!
– А как же мы будем держать, если у нас руки заняты? – ответили шедшие впереди.
В эту минуту к ним подошла панна Александра, такая же бледная, как Кмициц, и положила обе руки под его безжизненную голову.
– Это паненка! – сказал Домашевич.
– Я… осторожнее… – ответила она чуть слышно.
Пан Володыевский смотрел на нее и усиленно шевелил усиками. Между тем Кмицица уложили в постель. Домашевич стал обмывать ему голову водой и, приложив к ране приготовленный пластырь, сказал:
– Теперь пусть он только лежит спокойно. Эх, железная, должно быть, у него голова, если от такого удара не раскололась надвое! Может, и выздоровеет, молод! Ну и досталось ему!
Потом обратился к Оленьке:
– Дайте, панна, я вам вымою руки. Вот вода! Доброе у вас сердце, если вы для такого человека не побоялись запачкать руки в крови.
Он вытирал ей руки, а она так страшно побледнела, что Володыевский снова подбежал к ней:
– Вам здесь нечего более делать, ваць-панна. Вы проявили христианское милосердие к врагу, а теперь возвращайтесь домой.
И он предложил ей руку; но она даже не взглянула на него, а, обратившись к Домашевичу, сказала:
– Пане Христофор, проводите меня!
И они вышли, за ними пошел и Володыевский. На дворе шляхта стала восторженно ее приветствовать, а она шла бледная, шатаясь, со сжатыми губами и сверкающими глазами.
– Да здравствует наша панна, да здравствует наш полковник! – раздавалось со всех сторон.
Час спустя Володыевский, во главе ляуданцев, возвращался домой. Солнце уже взошло. Утро было радостное, настоящее весеннее утро. Ляуданцы в беспорядке рассыпались по дороге, болтая о событиях прошлой ночи и восхваляя до небес Володыевского, но он ехал задумчивый и молчаливый. Из головы у него не выходили эти глаза, глядевшие на него из-под спадавших на лоб волос, не выходила ее стройная и величавая, хоть и согбенная горем и страданием фигура.
– Чудо как хороша! – бормотал он. – Настоящая княжна! Гм… я спас ее честь, а может быть, и жизнь: ведь если б дом и уцелел, она могла бы умереть от одного страха. Она должна мне быть благодарна… Но кто поймет женщину… Смотрела на меня, как на слугу; не знаю, от гордости ли это или от смущения.
7
Воеводой русским в 1646–1651 гг. был князь Иеремия Вишневецкий.