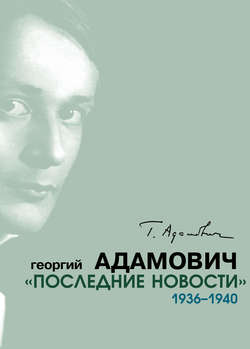Читать книгу «Последние новости». 1936–1940 - Георгий Адамович - Страница 15
1936
«Человек 1936 года в советской России»
Оглавление«Человек 1936 года в советской России».
Название до крайности заманчиво. Для нас, русских, сейчас важнее темы нет… Что он такое, этот новый человек, сложившийся в новых условиях? Существует ли он, или рождение, с такой официальной помпой возвещенное, – не состоялось? А если существует, сговоримся ли мы с ним, столкуется ли он с нами? В этом – все наше будущее; и все наши мысли о советской России, все недоумения, обращенные к ней, сводятся к вопросу о «новом человеке». Остальное – второстепенно, остальное – «образуется», не может не образоваться.
Книжка г-жи Извольской невелика, да еще написана по-французски. Заранее, значит, можно быть уверенным, что в ней кое-что окажется уже знакомым и что некоторый схематизм в изложении – при огромности и расплывчатости темы – неизбежен. Удивляет другое. Удивляет несоответствие заглавия содержанию. Извольская, в сущности, почти не касается «проблемы нового человека», а если случайно и заденет ее, то очень упрощает. Она обстоятельно рассказывает о том, что происходит в России, и комментирует рассказ личными своими мыслями. Книга интересна (притом не только для французов, но и для русских). Книга отчетлива, ясна, стройна, основана на действительном знании фактов, – но тема, намеченная в названии, остается за пределами ее.
Прочесть «Человек 1936 года», однако, стоит. На каждой странице при чтении делаем мысленно «заметки на полях», то соглашаясь, то споря с автором, то просто добавляя к его соображениям свои.
* * *
Отношение Извольской к русским событиям можно было бы охарактеризовать, как покорно-восторженное. Есть у нее во всех рассуждениях влечение к историческому фатализму, порой переходящему даже в непротивление злу. Власть, – утверждает она, – бессильна. Власть ничего не может поделать с «русской душой», с «русской совестью», которые верны извечным поискам правды-истины и правды-справедливости. Россия жива, живее, чем когда бы то ни было. Христианству предстоит невиданное торжество. Даже Горький «перекликается» с Евангелием. «Этот робкий, слабый свет уже не погаснет», – утверждает Извольская. Одним словом, народ-богоносец отстоял себя, – и в скором времени по всей Руси великой зазвонят святые колокола и расцветут добрые, чистые, любвеобильные чувства.
Не будем, однако, иронизировать. Конечно, Извольская права, когда говорит о том, что многое в революции, в самом замысле революции, совпало с «исконными чаяниями» русского народа, что многое в революции надо принять не только как совершившийся факт, но и как факт, исторически оправданный и морально оправданный. Ее цитата из Солоневича – насчет чувства общечеловеческого равенства, укоренившегося в России, несмотря ни на какие новые привилегии и новые злоупотребления, – в этом отношении чрезвычайно знаменательна. Ее размышления о праве на владение землей – тоже. Может быть, это чуть-чуть и «дважды два – четыре», но пока существуют люди, которые упорно доказывают, что дважды два – пять, не лишнее повторять простые истины. Конечно, без пассажа о том, что ударник или пахарь более достойны почета и внимания, нежели какая-нибудь «мисс Европа» или холливудская звезда, можно было бы обойтись: дверь открыта, ломиться некуда. Но придираться к мелочам легко. В общем, у Извольской есть, несомненно, тот нравственный подъем, то искреннее и совершенное бескорыстие, которые позволяют ей судить о вещах, фактах и людях без всякой предвзятой, «классовой», предубежденности. Она ни о каких выгодах не думает, ничего не добивается для себя («для себя» – именно в классовом, расширенном смысле слова). Ее книга тем и хороша, что ничем не затуманена – по крайней мере в наблюдениях.
Только выводы как будто слишком подогнаны к тем настроениям, которые дороги автору… Откуда эта уверенность в близком и окончательном торжестве христианства? Вопрос о его судьбах, о его будущем неясен сейчас во всем мире, а не только в России. Действительность вообще гораздо трагичнее, чем изображает ее Извольская. Роды «нового мира», – если только в самом деле суждено ему родиться, – гораздо труднее. Всякое угадывание планов, по которым будто бы должна развернуться история, обыкновенно оказывается беднее и менее противоречиво, чем действительность, – а тут уж слишком благополучно все концы сходятся с концами. Сочувствуя или не сочувствуя Извольской, всякий скажет: «помоги моему неверию».
* * *
Из простых и верных утверждений Извольской отметим ее слова о «патетической духовной борьбе» народа с режимом.
В частности, борьба эта есть смысл и оправдание бытия советской литературы, то, за что ей «многое простится». В нашем здешнем понятном нетерпении, в нашем недостаточно глубоком и полном представлении о том, в каких условиях литература эта живет, мы к ней часто требовательны до жестокости. В сущности, мы ждем от нее героизма и гибели, или, – как говорит Олеша, – «удара по морде истории» с неизбежными последствиями такого удара. А она предпочитает жить ценой каких бы то ни было ухищрений и уловок – ради сохранения самого факта жизни и по принципу превосходства живой собаки над мертвым львом. Конечно, проходимцам, подхалимам и карьеристам в России сейчас масленица, и они широко пользуются возможностью урвать все, что можно, заполняя газеты и журналы, проявляя стопроцентный энтузиазм и стахановскую готовность превысить любые нормы. Конечно, даже и те, кого не следует с этим сбродом смешивать, должны идти на крайние уступки, – и порой не говорить, а лишь намекать… Но в целом, когда оглядываешься на советскую литературу за пятнадцать лет ее существования, хочется сказать, что это летопись страдания и сопротивления, – несмотря на то что общая ценность революции литературой безусловно принята, и тяжба ведется вовсе не с нею. Сопротивление вызвано сознанием, что творчеству нужна свобода замысла, свобода ответственности, а не только свобода исполнения. Борьба идет на два фронта: прежде всего – непосредственно с цензурой, все чаще переходящей в открытое внушение (было бы в этом отношении чрезвычайно полезно составить брошюру, где подробно было бы рассказано об отношениях власти и литературы за революционные годы, – картина получилась бы небывалая и ужасающая), затем – с добровольными прокурорами и надсмотрщиками, которые, как водится, «plus royalistes, que le roi»… Вторые страшнее первых – зорче, проворнее и догадливее. Если в этих условиях хоть что-нибудь уцелело, надо и этому удивляться: могло бы не уцелеть ничего.
Во всяком случае, с нашей стороны неуместно фарисейское возмущение тамошней сговорчивостью. «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой…» Жалеть, может быть, и можно. Можно опасаться длительного, развращающего воздействия, которое эта сговорчивость должна иметь – и, вероятно, уже имеет, – на людей, к литературе непричастных и ей верящих. Но судить вправе только тот, кто изучил все документы «дела», а для осуждения нужно сознание, что ты сам в таком же положении нашел бы в себе силы поступать иначе.
* * *
Сталин.
Извольская говорит о нем как о деятеле с известной долей уважения, признавая его ум и в особенности чутье. Кажется, это признание – редкое среди эмигрантских публицистов – внушено не столько изучением трудов и поступков «красного царя», сколько желанием быть безупречно объективной и беспристрастной. У нас большей частью Сталин считается ничтожеством. Извольская утверждает, что Сталин, хотя и хитрит, подыгрываясь под властные требования «русской души», но понимает эту душу, как никто другой.
Личность Сталина настолько двоится, что действительно отношение к нему возможно разное. Разгадка может быть в том же, что Лев Толстой считал ключом к «Гамлету»: отсутствие индивидуальности позволяет какие угодно толкования… Но и это предположение спорно и произвольно. Если основываться на писаниях и речах Сталина, если действительно «стиль – это человек», то надо признать, что он человек бездарный, и притом неумный. В противоположность ленинской фразе, где всегда чувствуется ум, узкий, ограниченный, но бьющий в цель, фраза Сталина пуста, бесцветна и плоска. Одну мысль Сталин размазывает на целую речь, а когда пускает в оборот свои хваленые «формулы», то в них главная роль отдается риторике, именно и ненавистной Ленину (вроде, например, знаменитого определения труда как «дела славы, дела чести, дела доблести и геройства»). Это, конечно, утверждение «импрессионистическое», ни для кого не обязательное. Но кто хочет действительно убедиться в богатстве сталинского умственного багажа, пусть прочтет «Основы ленинизма»: сомнения быстро исчезнут.
Извольская, по-видимому, считает, что Сталин – первоклассный практик, а не теоретик, и тут, разумеется, колебания в оценке возможны, если только не стоять на той точке зрения, что все в историческом ходе событий совершается само собой и роль личности в нем призрачна. Надо признать, что в «загадку Сталина» входят и другие доводы, препятствующие вполне отрицательному ее решению. Непосредственное впечатление от Сталина скорее в пользу него, – а дает нам это непосредственное впечатление кинематограф. Усмехаться нечего: кинематограф – дело серьезное, оказывающее наблюдателю незаменимые услуги!
Все, конечно, видели на экране других европейских диктаторов. Невозможно выдержать это зрелище, – и если французы неизменно хохочут в такие моменты, то менее смешливому зрителю становится просто не по себе. Какая аффектация, какая театральщина! Искажается самый образ человеческий, и нельзя поверить, что для увлечения масс нужны эти сдавленные гортанные выкрики, эти жесты, эти вытаращенные глаза! Нельзя поверить, или иначе массы – это такое стадо, о котором и заботиться не стоит. (Интересно, кстати, неужели и Наполеон так ломался, или ему, создателю современного диктаторского стиля, не было нужно это актерство?) Сталин при сравнении выигрывает. Стоит, смотрит в небо – на аэропланы. Ухмыляется, переминаясь с ноги на ногу… Человек как человек, ничего о нем не скажешь. Простота же вернее свидетельствует о внутренней силе, чем какая бы то ни было поза.
* * *
В связи с возрождением семьи и официальным реабилитированием ее Извольская делает меткое замечание: семья препятствует культу доносов, – и, значит, им тоже приходит конец.
Действительно, одно с другим несовместимо. Между тем до самого последнего времени в случаях расхождения между долгом и чувством партийная мораль категорически предписывала подчиняться долгу, – и в иллюстрацию этого положения написано немало повестей и романов. Спор долга и любви стар как мир. Ни для кого не секрет, однако, что в советской обстановке он получил новую, непредвиденную Софоклом, окраску. Долг нередко понимается как необходимость всеобщей взаимной слежки, – разумеется, в высших «классовых» интересах.
Произносятся прекрасные слова: солидарность, единство цели, верность революции, – а на деле, под прикрытием удобных лозунгов, расцветает предательство и внедряется предательская психология. В литературных обзорах не раз приходилось этой темы касаться – напомню, например, «Сестры» Вересаева или «Дальнюю родственницу» Герасимовой. В столкновение со своеобразным пониманием «солидарности» входит и представление о дружбе, давно уже волнующее умы советских беллетристов и для многих из них оказавшееся роковым. Нельзя же быть дружным «постольку-поскольку», нельзя дружить с человеком как «с представителем класса», а не живой личностью, наделенной и достоинствами, и пороками: это-то и заставило некоторых авторов договориться до того, что дружба – «мелкобуржуазное чувство».
Если жизнь мало-помалу побеждает большевистскую схему, навязанную ей, то восстанавливаются с неодолимой силой и ощущения, которые, кстати сказать, напрасно Извольская склонна считать особой духовной сокровищницей русского народа. Мерзость есть мерзость везде, – и правды в освобождении от нее ищут все… Не стоит классовую мистику менять на национальную.
Я коснулся только нескольких вопросов, затронутых в «Человеке 1936 года». А заметок на полях можно было бы сделать множество: о причинах исчезновения любовных тем в советской литературе и ее ссыхания, как следствии этого; о бедности и богатстве в представлении гражданина СССР; о стахановщине, как об одной из попыток занять разум рабочего, которому надо же дать какую-нибудь безвредную пищу; о метаморфозах марксизма… Все это близко касается всех нас. Как же нам всем об этом не думать?