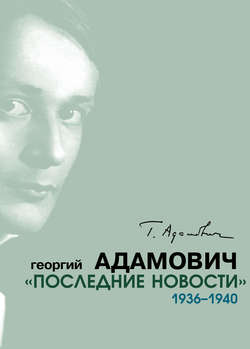Читать книгу «Последние новости». 1936–1940 - Георгий Адамович - Страница 2
1936
Двойная жизнь
Оглавление«Величие и падение Андрея Полозова».
Если у читателя очень хорошая память, если он внимательно следит за литературными обзорами, это название может быть ему известно… Но надеяться трудно и считать это установленным было бы опрометчиво. Года три или четыре тому назад я писал о повести Якова Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова», помещенной в «Новом мире». Повесть была замечательная, на редкость своеобразная и выделялась среди обычного журнального материала тем ярче, что имя автора встречалось в печати впервые. Кто читал ее, а не только ознакомился с ней в пересказе, – тот этой вещи, конечно, не забудет. Психология молодого советского литератора, одаренного, но глубоко беспринципного, жаждущего признания и власти, жаждущего вообще «сорвать цветы жизни», показана в «Величии и падении» с такой убедительностью, силой и проникновением, что в типе этом, казалось, заложены были возможности широчайших обобщений. Особой «художественности», в обычном смысле слова, – то есть образности, внешней правдоподобности, удачных бытовых подробностей, – в повести не было. Она написана сухо, сдержанно, почти схематически – в духе тех «портретов», в которых достигали такого блеска некоторые европейские писатели прошлых столетий. Но тем удивительнее казалась она в наше время в Москве, рядом с восторженно близорукими «зарисовками» всякого рода ударников и знатных людей. Да и не только рядом с ними! Рыкачев – подлинный писатель, и остается им, с кем бы его ни сравнить. Не так часто эту «подлинность» мы с уверенностью ощущаем, чтобы ее не отметить и ей не обрадоваться.
На днях появилась здесь в продаже книга Рыкачева «Сложный ход», вышедшая в России этой осенью. О ней было очень мало отзывов в советской критике. Автор по-прежнему малоизвестен, по-прежнему пребывает даже не во втором, а в третьем ряду советских писателей, оттиснутый не только действительно талантливыми людьми, но и «юркими ничтожествами», – если воспользоваться выражением Троцкого. Между тем, он достоин первого ряда, – и, повторяю, достоин был бы его повсюду. «Сложный ход» укрепляет доверие к нему, и помещенные в этом сборнике полурассказы, полуочерки не бледнеют в соседстве с «Величием и падением Андрея Полозова», которым он открывается.
Первый признак того, что книга действительно интересна: хочется сделать как можно больше цитат из нее, хочется поделиться тем, что поразило, понравилось, восхитило… К сожалению, в этом стремлении приходится себя ограничивать, и не только ради экономии места. Все-таки облик писателя, общий его умственно-духовный склад, из разрозненных отрывков ускользает, и понять его по одним цитатам нельзя. А понять его надо.
У Рыкачева все его острое, какое-то беспощадное, неумолимое, ничего не прощающее внимание обращено на людей «приспособленческого» типа. Он прирожденный портретист тех, кто притворяется. Он угадывает самые скрытые побуждения, разоблачает самые тайные движения души и воли. Он намечает жертву – и следит за ней, не отрываясь, не отпуская ее ни на шаг, он даже любуется ею, перевоплощается в нее. Простыми, нарочито бесхитростными, хотя и очень искусными чертами, без всяких стилистических украшений, пренебрегая красками, как будто одним только карандашом рисует он людей слабых и сильных, обреченных или торжествующих, – и не то чтобы они, эти люди, вставали перед нами, как живые, нет: но к другим живым людям у нас в руках оказывается ключ! Рыкачев чуть-чуть грешит отвлеченностью, – он не хочет или не может дать образы неповторимо индивидуальной прихотливости и сложности. Его образы бесплотны, бескровны. Но они все-таки правдивее и глубже тысячи других типов, наделенных внешними чертами жизненности и внутренне мертвых. Изобразить колхозника, кричащего с трактора: «Петька, чаво ты там ершишь!», или советскую барыню, выбирающую у портнихи платье «только непременно, непременно по последнему парижскому фасону шик», – право, не значит еще создать живого человека! Большинство современных беллетристов бродят в человеческой душе, как впотьмах, наощупь, угадывая отдельные особенности, но не видя общего плана, общей, всенаправляющей логики речей и поступков, и тут никакие словечки, даже самые удачные, не помогут: поминутные срывы неизбежны. Рыкачев мазками брезгает. Но он знает, про что пишет и о ком говорит. Если бы не склонность все, решительно все, объяснять мотивами «классовыми», если бы не раболепное, безмолвное преклонение перед всесильным «экономическим фактором», некоторые его страницы были бы безупречны… Марксизм, воспринятый довольно упрощенно, и притом как истина абсолютная и тиранически требовательная, сбивает иногда Рыкачева с толку. Проницательность его мгновенно тупеет. Ироническое ясновидение исчезает. Но нельзя его за это слишком строго осуждать, – да и общее правило, применимое ко всем советским книгам, остается в силе и здесь: надо читать не только напечатанные строки, надо читать и между строк. Иначе никак не объяснить, почему человек, только что доказавший свой изощренный, сильный, прозорливый ум, вдруг превращается в восторженного ягненка, неспособного ни мыслить, ни понимать и с покорной доверчивостью бредущего туда, куда ведут его «вожди».
Но дарование нередко выводит Рыкачева из самых трудных и сложных положений. Случается, что «ленинизм» оказывается не только в силах его погубить, но даже сам растворяется в оригинальности и смелости его замысла. Вот, например, – «Похороны».
Автор с первых же строк предупреждает, что похороны интересуют его как «одна из наиболее изящных, тонких и устойчивых форм классового протеста буржуазии в эпоху диктатуры пролетариата». Ничего хорошего это заявление не обещает… Но дальше, вопреки ожиданиям, под пером Рыкачева возникает такая поэма – не знаю, как сказать иначе, – поэма, полная такого драматизма и психологического чутья, что от нравоучительного предисловия не остается и следа.
Похороны. «Сильные белые кони в белых попонах и в белых масках без всякой натуги тянули белый походный храм катафалка, неспешно и печально колыхавшийся под осенним советским небом. Драгоценные попоны с величавым, беспечным расточительством мели пышными шелковыми кистями осеннюю советскую землю. Два выходца из старого мира в белых цилиндрах и в длинных белых балахонах с огромными серебряными пуговицами, в которые свободно гляделся сложный городской советский пейзаж тысяча девятьсот тридцать второго года, вели под уздцы медленно переступавших коней». Рыкачев безошибочно почувствовал, что в медленной, величавой торжественности погребального обряда есть что-то противоречащее так называемому «пафосу новой жизни» и всем вообще коммунистическим устремлениям. Он почувствовал, что это один из островков, на которых спасаются те, кто уцелел после кораблекрушения. Смутно чувствуют это, может быть, все, и смутно знают, что таких островков много. Но Рыкачев не останавливается в недоумении, а вносит в свои догадки и впечатления свет.
«Непосредственно за катафалком, со склоненными ниц головами, словно высматривая оставляемую им в осенней слякоти колею, шла вдова с сыном и дочерью. Вдова с неподражаемым дореволюционным изяществом опиралась на руку сына. Ее поза исполнена была глубокого и таинственного смысла, доступного лишь посвященным. Случайному прохожему она казалась совершенно естественной и непринужденной: сломленная горем мать опирается на руку сына. Это было трогательно и привычно. Мысль останавливалась на этом, как измерительный лот, ударившийся о дно. Вся сложная и многосмысленная работа вдовы пропадала для прохожего даром. Если что и казалось ему странным, то это только необычайная пышность похорон. Как перевести в словесное выражение пластический язык вдовьей позы?
Сын поведет теперь дело отца. Беспечная молодость кончилась. Опора семьи. Он был чуть ветрен, этот милый мальчик. Отец баловал его. Теперь – конец скачкам, ресторанам, увлечениям. Дело зовет. Семья зовет. Вот дочь на выданье. Он выдаст ее за своего богатого друга, который к ней давно неравнодушен. Примерный молодой человек. Дело до времени останется на имя вдовы. Подписывать векселя будет пока только она. Молод еще. Пусть поучится, как управлять делами и людьми. Он весь в отца: в нем так же сильно чувство долга, в нем та же воля и энергия. Он освоится быстро и снимет с ее слабых плеч тяжкое бремя забот. Тогда поедет она с дочерью за границу, – развлечься, забыться… Какое горе! Какая утрата!
Разумеется, этой буржуазной вдове эпохи социалистической реконструкции были, в сущности, глубоко чужды все перечисленные выше житейские образы, они так далеко отстояли от подлинной ее жизни, от реальной ее советской доли! Никакого не было дела, никакой дочери на выданье, дочь уже полтора года жила с каким-то скверным мальчишкой, никаких не знал сын скачек и ресторанов, вовсе не был он милым мальчиком и ничуть не был он ветрен на свои двести пятьдесят рублей по должности ответственного исполнителя. Но когда-то какие-то вдовы в такой же вот осенний слякотный день, имея по сторонам сына и дочь, брели, склонясь, за гробом мужа. Такой же был зыбкий катафалк с высокой аркой, такие же попоны на конях, такие же белые люди вели коней под уздцы, и такой же, матового серебра, стоял на помосте гроб. Их было много, этих вдов, многие тысячи, – в России, в Германии, во Франции. Где только не было их? Так же, с тем же выражением женской печали и материнской гордости, опирались они на сильную руку сына, принявшего из мертвых рук отца заботу о деле и о семье».
Хоронят, конечно, «бывшего» человека. Вероятно, он служил в каком-либо советском учреждении, был, может быть, даже ответственным работником, пользовался влиянием… Но смерть все очищает.
«Вдова стоит у гроба мужа, и горькое удовлетворение светится в ее взоре. Явившиеся каким-то особо многозначительным, дореволюционным способом пожимают ей руку. Она принимает эти пожатия, как молчаливый пароль. Каждый читает в ее взоре свою собственную мысль: пусть он, живой, служил большевикам, служил добросовестно, в полную меру сил и знаний своих, – человек слаб и грешен! – но мертвый он принадлежит прошлому; подобно блудному сыну, вернулся он после пятнадцатилетних скитаний в лоно своего класса!»
Не могу цитировать дальше. Но стоило бы привести и строки о первой, вечерней звезде, блеснувшей над катафалком, о звезде, показавшейся провожающим «сильным и возвышенным аргументом в пользу владевших ими эмоций», и о задержке процессии, этой «досадной неделикатности со стороны большевиков», и о московской осени, «тлевшей тихим и сияющим пламенем».
Не менее остро и проницательно у Рыкачева описание похорон комсомолки, дочери крупного московского ученого. «Она лежала в гробу, обряженная в белое шелковое платье, с венчиком вокруг девического лба, с молитвенно сложенными руками. Так и говорили: лежит, словно ангел! Я не знаю, что явилось причиной смерти комсомолки, но хоронили ее так, будто умерла она от воспаления легких через несколько дней после первого ее институтского бала, когда в том же белом шелковом платье, разгоряченная танцами, музыкой, звяканьем шпор, первой своей свободой, первым успехом, окружением этих милых корнетов и пажей, вся обсыпанная конфетти, с голубым бантом в волосах, с капелькой пота на верхней губе, милая и капризная, заставила она принести себе, вопреки уговорам старших, стакан студеной воды. Умирала она кротко и только слабым голосом просила прощения у родителей и подруг своих, что причиняет им такое огорчение.
Иллюзия была полной. Иллюзия была столь полной, что товарки и товарищи покойной по комсомолу глядели на нее, мертвую, с какой-то враждебной отчужденностью. Мертвая, думали они, вернулась она в лоно своего родного класса!»
Многие, вероятно, пожимая плечами, укажут на ежеминутное и досадное повторение слова «класс». Соглашаюсь, эта назойливая марксистская «установка» раздражает… Но заменим два-три слова другими словами: как все верно, и при этом как ново, в том смысле, что Рыкачев впервые все это увидел и проанализировал! Интересна, между прочим, дата под «Похоронами»: 1932. С тех пор многое изменилось в России. Рыкачев писал еще в годы, когда идеология, им обличаемая, казалась обреченной на близкое исчезновение. Но теперь она как будто получает поддержку власти. На днях мы прочли слова высочайшего одобрения рождественской елке – факт удивительный, много более значительный и показательный, чем может показаться на первый взгляд. Поистине, «для чего кровь проливали», и как не понять горечь и отчаяние тех, кто ждал мировых пожаров! От елки недалеко и до похорон с кистями и попонами.
Но об этом – и о других повестях Рыкачева – в следующий раз.