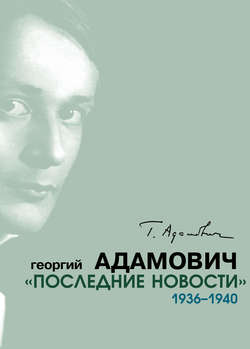Читать книгу «Последние новости». 1936–1940 - Георгий Адамович - Страница 19
1936
<«Стихи и поэмы» Н. Гронского. – «Всадники» Ю. Яновского>
ОглавлениеЕсть у Боратынского знаменитые строки о музе, которая поражает свет «лица необщим выраженьем».
Строками этими не раз злоупотребляли критики, применявшие их ко всякого рода поэтам, даже таким, которые лишены всякой оригинальности. Кто только ни цитировал этого злосчастного «необщего выраженья», на лице каких только поэтов не было оно уловлено. В свое время даже Дмитрий Цензор был им удостоен, – но и это не отбило охоты искать его у других стихотворцев.
По привычке, по безотчетной склонности к «линии наименьшего сопротивления» я едва не начал отзыва о книге стихов покойного Н. П. Гронского истрепанной, затасканной цитатой из Боратынского… А книга действительно не похожа на другие сборники стихов, выпускаемые молодыми авторами! Она действительно своеобразна. Обойдусь поэтому без цитаты – чтобы не испытывать доверия читателей. Очень много в творчестве безвременно погибшего поэта представляется мне спорным. Бесспорна только его принципиальная, вызывающая, подчеркнутая «необщность», его постоянное желание плыть «против течения».
Вокруг этого посмертного сборника уже разгорелась любопытная и характерная полемика, не дошедшая до большой печати, но волнующая нашу литературную молодежь. К сожалению, полемика эта осложнена и «снижена» вмешательством давней, вздорной распри эмигрантской литературной «столицы», то есть Парижа, с «провинцией», – распри, инициативу которой по справедливости приходится отнести на счет «провинции». Именем Гронского воспользовались отрицатели «парижской поэзии», для того чтобы под прикрытием высокой идейности лишний раз свести какие-то темные самолюбивые счеты: в Париже Гронского будто бы не заметили, не поняли, не признали, не признают и до сих пор, – а вот «провинция» его оценила, ибо она, провинция, еще сохранила чувство великого и прекрасного, столица же разменяла это чувство на всякие мелкие изыски, утонченности, штучки, недомолвки и намеки. Не будем в полемику ввязываться. Как водится, обличители приписывают ум и достоинство себе, глупость и ничтожество оставляют на долю противника, после чего и празднуют победу. Интересно в разногласиях не это. Интересно то, насколько тоска о великом, героическом, прекрасном сейчас остра и как разбивается политическая реализация этой тоски о тысячи препятствий психологических, словесных или общекультурных… К чести покойного Гронского надо сказать, что он сделал на трудном, почти безнадежном пути одинокую смелую попытку. Но минимум беспристрастия и правдивости требует сразу же добавить, что попытка и осталась попыткой. Да и могло ли быть иначе, раз поэт умер, не достигнув и 25 лет?
Наша лирика уже давно больна боязнью яркости, боязнью красноречия, боязнью величия, давно уже прячется по углам и закоулкам вдохновение, избегая простора. Поставить диагноз – легко, найти метод лечения – несравненно сложнее. Нельзя же сводить все дело к примитивному смехотворному объяснению, будто у людей просто-напросто испортился вкус, и только потому предпочитают они остатки, объедки, обглодыши чувства, мысли и воли былым роскошным пирам. Вкус не испортился, но былые яства протухли. Упрек приходится возвратить, он не по адресу. Подделки под великое искусство, откровенно и властно апеллирующее к основным человеческим устремлениям, настолько стали общедоступны, и столько повсюду развелось «почти Пушкиных», «почти Бодлеров» или «почти Достоевских», что поэзия (может быть, не в самой сильной своей части, но, наверно, в самой впечатлительной и чуткой) ушла в щели, где и довольствуется полу-днем, полу-сумерками. Ей тесно, она задыхается, но у нее осталось по крайней мере утешение творчества, то есть встреч с новым материалом, упоительной борьбы с ним, обработки его, – и на мнимо-ширококрылых счастливцев, беспечно пребывающих наверху, она посматривает без всякой зависти… Конечно, долго это длиться не может. Выход, путь надо найти. Но где, но как? Сколько ни думай, ответ уводит нас из чисто литературных областей к широкому полю социальных (а для некоторых – и религиозных) исканий. Нарушена связь человека с миром, задето сознание, – и горьким обольщением было бы считать, что «здоровую» поэзию можно восстановить, не спускаясь к самым корням недуга. В России поэзию поставили на ноги «в два счета», как и все вообще: нам может быть не по душе такое обращение, но мы должны признать, что по-своему оно законно. Там, во всяком случае, начали «перестройку» с самого основания, – и метаморфоза поэзии там явилась неизбежным следствием беспрепятственного разрешения общих задач культуры. Не касаюсь сейчас вопроса, насколько советская поэзия удачна, жива, талантлива. Ясно, однако, что у нее нет на плечах нашего груза, – а наша-то творческая трагедия именно в том, что мы от этого груза не отказываемся, что без него нам самый полет ни к чему, что мы не чувствуем ни малейшего желания превратиться в «новых людей», которых насаждает на земном шаре Сталин. Нам нужна своя великая поэзия. Как ее создать?
Надо отдать справедливость Гронскому: он не принадлежал к поэтам типа «неподозревающих», то есть сочиняющих гладкие, звонкие, эффектные стихи о Боге, родине, любви или бессмертии души, в безмятежной уверенности, что это-то и есть поэзия. У него была, по-видимому, острая потребность обновления, – и соединил он в своих стихах державинскую манеру с манерой Марины Цветаевой не случайно. В строфах, где почти всегда чувствуется упорная работа, он искал выхода голосу больших и чистых порывов, больших и чистых страстей… Но стиля он не нашел, и – даже больше – он не приблизился к нему ни на шаг, не уловил, не почувствовал самых расплывчатых очертаний его. Лирика его всегда серьезна, значительна, но, собственно говоря, не как поэзия, которой она еще не стала, а как свидетельство о юном, душевно-одаренном и сильном человеке. Интересно было бы сделать опыт: перевести стихи Гронского на какой-нибудь иностранный язык. Вероятно, получился бы слепок с чего-то подлинно-прекрасного. Беда, однако, в том, что и по-русски эти стихи – лишь слепок, и мучительная нестройность слов, какая-то глубочайшая неслаженность их звукового состава вместе с рассудочной книжностью позволяют только догадываться о чертах настоящего «лица».
Все-таки книгу эту ни с какой другой спутать нельзя. В ней есть что-то смутно-орлиное и рыцарское, независимо от литературных ее достоинств или неудач. Образ горных вершин, постоянно в ней мелькающий, очень верно передает впечатление, которое она оставляет. И хорошо, что это действительно молодые стихи. В наше время много юношей, все уже знающих, все уже понявших, и этим знанием, этим пониманием подкошенных и обессиленных. Для них все в мире относительно, они к «добру и злу постыдно равнодушны». Здесь, у Гронского, молодость берет реванш, – а если иной двадцатилетний скептик взглянет на этот задор с остывшей усмешкой, то, может быть, позднее, много позднее, догадается он, что усмехаться было нечего. Догадается и пожалеет, что не горел, не мечтал, не рвался в какой-то неведомый бой сам.
* * *
«Всадники» Юрия Яновского – книга «необычайная», по отзывам советской критики. О ней в Москве говорят как об одном из замечательных литературных явлений за последние годы. Не так давно Замятин в парижской «Марианне» поддержал это мнение, выделил из текущей «продукции» сборник Яновского вместе с прелестным и удивительным «Жень-шенем» Пришвина.
Интерес, значит, возбужден. Книга действительно заслуживает внимания. К сожалению, приходится читать ее в переводе, так как написана она по-украински.
«Всадники» – сборник рассказов о гражданской войне на юге России. Рассказы эти связаны между собой общим действием, повторением имен, но связаны настолько слабо, что цельность книги возникает лишь благодаря единству настроений. Настроение знакомо, его не раз передавал Бабель, передавал Пильняк и другие: бесшабашная удаль, нищета, беспечность, презрение к жизни и смерти, ожидание коммунистического рая, одним словом, все то, что условно принято называть «романтикой революции». На этом фоне движутся красноармейцы, махновцы, белые, занимаясь почти исключительно взаимным истреблением. Первый рассказ, «Двойное кольцо», особенно характерен.
Герои его – четыре брата Половцы. Петлюровец, Оверко Половец, берет в плен деникинца, Андрея Половца, и, не задумываясь, убивает его. Панас Половец, махновец, поступает так же с Оверком. Наконец, Иван, коммунист, расправляется с Панасом. Каждый из братьев с иронией вспоминает перед убийством поговорку, которую повторял отец: «Тому роду не будет переводу, в котором братья любят согласие и угоду», но один оправдывается тем, что «государство важнее рода», второй – тем, что «братья одного роду, но разного класса», и так далее. Другие рассказы – приблизительно в том же духе.
Если бы в наше время мир не был бы кое в чем похож на сумасшедший дом, такая книга должна была бы вызвать омерзение, содрогание и ужас… Описывать, конечно, можно все. А случаи, подобные тем, которые описал Яновский, вероятно, происходили в действительности, и, следовательно, автор не выдумывает, не лжет. Но автор захлебывается от восторга – и пересыпает свои идиллические картинки такими, например, стихотворениями в прозе: «О, девятнадцатый год поражений и побед, кровавый год исторических баталий и человеческих битв, критический, несокрушимый, бурный и нежный, бессонный девятнадцатый год!.. О, девятнадцатый год мстителей и плательщиков, достойный год расчетов и записей в бухгалтерскую книгу Революции, далекий год живых генералов, набитых астмой, калом и страхом, год ненайденных образов и трагедийных метафор, год любви и смерти, трепета восставших сердец, простоты жертв, сладости ран и высоты классовых чувств, о, милый, экстатический год!».
Не знаю, как все это сказано по-украински. Но по-русски словечко «милый» – незабываемое и поразительное. Именно он, этот эпитет, дает толчок и своей неожиданностью как бы заставляет очнуться: в сущности, мы уже так много читали романов и рассказов в духе Яновского, так привыкли к ним, что перестали удивляться этой «романтике». Но «милый» девятнадцатый год – это все-таки чересчур: вся его кровь и жестокость сразу встают в памяти!
Разумеется, в России на фоне теперешней производственной беллетристики, серой и скучной, «Всадники» должны казаться вещью волшебно-яркой. Не отрицаю, что Яновский действительно талантливый человек: Замятин совершенно прав, отмечая живописные достоинства его стиля, меткость характеристик, своеобразие ритма. Во «Всадниках» есть ощущение степной безбрежной шири, есть налет дикой, какой-то азиатски-унылой поэзии. Дикая эпопея, отраженная в ней со стенько-разиновским привкусом, издали может взволновать души и сердца, вянущие в теперешней бытовой обыденщине.
Но если очнуться… Какая все-таки это звериная, волчья книга! Куда идет человек, если эти поэтически-талантливые, даже вдохновенные картины взаимной бойни и травли вызывают в нем только поэтические эмоции! Представьте себе, что «Всадников» прочел бы Лев Толстой: он не то что поморщился бы, он был бы, конечно, охвачен величайшим волнением и гневом и просто не поверил бы, что подобные книги могут появляться, одобрительно обсуждаться, вызывать восхищение и признание! Даже здесь, в эмиграции, наша восприимчивость настолько притуплена событиями и эпохой, что без устали, без внешнего толчка, не замечаешь в рассказах Яновского ничего особенного. Читаем, обсуждаем стиль и литературные приемы… Неужели и в России это так, и никто не приходит в ужас, в недоумение, в отчаяние?