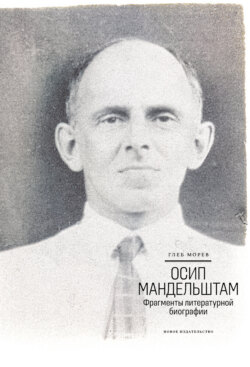Читать книгу Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы) - Глеб Морев - Страница 5
Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-1930-е годы)
4
ОглавлениеЧто я делаю? – писал Мандельштам отцу в конце ноября 1923 года. – Работаю для денег. Кризис тяжелый. Гораздо хуже, чем в прошлом году. Но я уже выровнялся. Опять пошли переводы, статьи и пр. «Литература» мне омерзительна. Мечтаю бросить эту гадость. Последнюю работу для себя я сделал летом. В прошлом году работал для себя еще много. В этом – ни-ни… (III: 386).
Судя по опубликованным к сегодняшнему дню документальным материалам, переводы, внутреннее рецензирование и газетно-журнальные статьи составляли основной и более-менее стабильный источник доходов Мандельштама на протяжении 1920-х годов – в отличие от крупных, но разовых гонораров за публикацию оригинальных стихотворений и прозы[51]. Письма поэта полны упоминаний о бесконечных редакционно-издательских перипетиях, касающихся переводов; они тяготят Мандельштама, но связаны с необходимым заработком. Мандельштам пользуется поддержкой высокопоставленных советских издательских работников – Ф.М. Конара, М.Б. Вольфсона, В.И. Нарбута[52], входит в тесную кооперацию с Бенедиктом Лившицем, организовавшим в Ленинграде то, что М.А. Кузмин назовет «фабрикой переводов»[53], – фактически конвейер по литературной обработке и переизданию старых переводов зарубежной литературы. К 1928 году такой – пусть и вынужденный – способ существования в литературе приобрел для Мандельштама известную инерцию. Все изменил выход в сентябре 1928 года в издательстве «Земля и фабрика» книги Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», в основу которой были положены два изданных прежде русских перевода – В.Н. Карякина (1916) и А.Г. Горнфельда (1919) – отредактированные Мандельштамом. По ошибке издательства на титульном листе значилось «Перевод с французского О. Мандельштама».
Разразившийся вслед за этим скандал принято именовать «травлей Мандельштама» (именно его имеет в виду Н.Я. Мандельштам, когда упоминает в письме Молотову «травлю, которая велась против Мандельштама»). Однако, если на заключительном этапе этой истории действия оппонентов Мандельштама – в результате его встречных ходов – действительно приобрели внелитературный характер, то причины возникновения этого конфликтного сюжета и выхода его в публичное пространство лежат совсем в иной плоскости.
Инициировавший публичное разбирательство вокруг казуса с «переводом» «Тиля Уленшпигеля» А.Г. Горнфельд оказался увековечен в истории русской литературы как герой «Четвертой прозы» Мандельштама, ставшей своеобразным художественным итогом противостояния поэта и его критиков. На чрезвычайную пристрастность портрета Горнфельда, данного Мандельштамом, уже указывали исследователи[54], однако мотивы, которыми руководствовался Горнфельд в своем критическом выступлении и которые, с нашей точки зрения, имеют прямое отношение к выбору и конфликту моделей литературного поведения после революции, не рассматривались или, с нашей точки зрения, искажались[55].
Мишенью Горнфельда, опубликовавшего 28 ноября 1928 года в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» «письмо в редакцию», озаглавленное «Переводческая стряпня», был не столько персонально Мандельштам, сколько обычай советских издательств «бросать на рынок старые переводы классиков в совершенно неподходящем виде»[56]. Горнфельд, понесший материальные убытки в связи с публикацией фактически украденного у него издательством перевода, стремился, как он сам многократно подчеркивает в переписке по поводу «дела Уленшпигеля», не к судебной тяжбе с Мандельштамом и к возмещению убытков, но к вынесению проблемы на суд «общественности». Для него это был «процесс совсем не денежный, а принципиальный»[57]. «Что касается моих претензий к О. Мандельштаму, то в этом отношении я добивался только гласности и суда общественного мнения и потому совершенно удовлетворен той оглаской, которую получило дело», – пишет Горнфельд правлению Всероссийского союза писателей 10 января 1929 года[58]. Свою миссию Горнфельд (с начала 1920-х годов вовлеченный в обреченные попытки противостояния стремлению новой власти «морально разложить и исподволь полонить писателя»[59] и лично весьма щепетильный в вопросах социальной этики[60]) видит в публичном вынесении моральной оценки советским литературным практикам и тем авторам, которые – осознавая, как Мандельштам, порочность этих практик – тем не менее принимают в них деятельное участие.
Сложившаяся в СССР литературная система, полагает Горнфельд, провоцирует писателей на безответственность – авторскую и/или поведенческую. Так, осуждая неосновательные, с его точки зрения, выводы очередной статьи Виктора Шкловского, Горнфельд пишет одному из своих корреспондентов: <…> он [Шкловский] хочет иметь право на эту бесшабашность, как Мандельштам хочет иметь право на кражу. И из-за этого эти не плохие ведь и ценные люди стали мне врагами. Очень грустно»[61]. Таким образом, прежнее эстетическое расхождение Горнфельда – «традиционно мыслящего, позитивистски настроенного интеллигента, которому „совершенно чужда” вся культура модернизма»[62] – и с Мандельштамом и со Шкловским осложняется столь же глубоким расхождением этическим, напрямую связанным с непроговариваемым вслух по цензурным условиям отношением к советской власти. Как, по точному замечанию Б.М. Гаспарова, в вопросах поэтики Горнфельд «не делает никакого различия между старшими и младшими символистами, между футуристами и акмеистами: для него все они – представители „декадентской” глоссолалии»[63], так и в вопросах этики (связанной с политикой) Горнфельд не отличает Мандельштама от, скажем, Маяковского[64] – для него все они адепты нового пореволюционного литературного устройства, противопоставившие себя традиционным моральным устоям русской литературы, хранителем которых он себя ощущает. В установках, с которыми Горнфельд подходит к «делу о переводах», отчетливо читается стремление вернуться к органичной для дореволюционной либеральной общественности и, наоборот, экзотической для советской действительности конца 1920-х годов практике «публичных жестов»: так, демонстративно отказываясь – несмотря на скромное материальное положение и инвалидность – от получения денежной компенсации от издательства за несанкционированное использование его перевода, Горнфельд предлагает перевести эти деньги в Литературный фонд[65] – восстановленную в 1927 году организацию писательской взаимопомощи, наследующую (по мере предоставлявшейся большевиками возможности) закрытому в 1918 году прежнему Литературному фонду— Обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым, с которым Горнфельд в свое время сотрудничал.
Именно эту «старорежимность» Горнфельда в полемических целях педалирует Мандельштам в своем ответе ему, опубликованном 12 декабря 1928 года в «Вечерней Москве»: он подчеркивает чуждость Горнфельду советского «производственного языка», к которому сам демонстративно прибегает в своем «Письме в редакцию», противопоставляет себя олицетворяемому Горнфельдом типу традиционного переводчика («книжника-фарисея») как работника, призванного решать актуальную «культурную задачу» по «перевоплощению» для «молодежи» старых «культурных ценностей», именует Горнфельда «почтенным критиком-рецензентом» (то есть еще раз подчеркивает его дореволюционный стаж) и, наконец, прямо квалифицирует критическое выступление Горнфельда как «черный „литературный скандал" в духе мелкотравчатых „понедельничных" газет доброго старого времени».
С этим же противопоставлением по линии принадлежности к «старой» и «новой» литературе связан центральный тезис мандельштамовского ответа – об «извращении всего моего писательского облика» и «пренебрежении» к двадцатилетнему «самостоятельному труду» поэта.
Еще до выхода скандала с переводом «Уленшпигеля» на печатную поверхность, на стадии кулуарных переговоров Мандельштама с Горнфельдом, последний сообщал об их ходе своему конфиденту А.Б. Дерману, передавая суть объяснений Мандельштама: «А во всем виноват Горн<фельд>. Да, – он принадлежит к „старым”, которые меня не признали. Если бы своевременно он понял и выяснил, кто такой Мандельштам, мне не пришлось бы прибегать для пропитания к таким способам»[66]. Это важнейшее – пусть и в передаче оппонента – свидетельство указывает на тесную связь в сознании Мандельштама, с одной стороны, того способа «быть писателем», который он вынужденно выбрал в 1920-е годы, и, с другой, неудовлетворенности своим социальным и литературным статусом в целом. Высокая самооценка поэта, которую он не считал нужным скрывать (отчасти в полемических целях[67]), не находила понимания у большинства современников, особенно «старших»: «<…> в Лицее живет (заходил возобновить знакомство) Мандельштам, по-прежнему считающий себя первым поэтом современности», – иронически сообщал, например, Иванов-Разумник Андрею Белому в ноябре 1926 года[68]. Своего рода кульминацией в биографии Мандельштама этой темы «недооценки» современниками станет весной 1934 года прямо высказанное ему суждение принадлежавшего к одной с Горнфельдом и Ивановым-Разумником культурной генерации В.Д. Бонч-Бруевича:
Я сказал Вам, что оцениваю Вас совсем не тем масштабом, который Вы к себе прилагаете. Это мое право как Вашего усердного читателя, и думаю, что с этой моей оценкой согласны большинство Ваших читателей, что мне неоднократно приходилось выяснить в беседе с Вашими читателями и с товарищами по экспертной комиссии [Литературного музея]. Конечно, Вы можете не соглашаться с моей оценкой Вас, но думаю, что переоценка себя свойственна многим писателям нашего времени, и в частности поэтам. Мы все Вас любим и уважаем, но никак не можем ставить Вас на одну доску с классиками нашей поэзии (III: 827)[69].
Актуальность и чрезвычайная болезненность для поэта обеих этих тем (писательской самореализации и недооценки) определили эмоциональность (и, следовательно, уязвимость) его реакции на критику Горнфельда и – забегая вперед – на последующие за этим и связанные с «делом Уленшпигеля» события.
Несмотря на двадцатилетнюю работу в русской литературе и заявленную ею высокую, по слову Мандельштама, «жизненную задачу», к концу 1920-х годов его положение в литературном поле оценивалось современниками как положение «неудачника». Так, в набросках воспоминаний, создававшихся на рубеже 1930-х годов, бывший учитель Мандельштама в Тенишевском училище В.В. Гиппиус писал: «Основа моей когда его знал характеристики: литературный неудачник – ergo – завистник – или надутый собственник, прикрывающийся важностью»[70]. Эта квалификация, идущая с 1910-х годов рука об руку со снисходительно-ироническим отношением к личным качествам поэта даже в дружеском кругу[71], самим Мандельштамом не в последнюю очередь связывалась с критической недооценкой его представителями предшествующих литературных поколений – такими, как критик Горнфельд или символисты. В 1935 году, в беседе с С.Б. Рудаковым Мандельштам признавался: «<…> я Кюхельбекер – комичная сейчас, а может быть, и всегда фигура… Оценку выковывали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех, и у других»[72].
«Непризнание» дореволюционным литературно-критическим истеблишментом (к которому принадлежал, в частности, Горнфельд) определило, по мысли Мандельштама, его недостаточно высокий для возможности существовать, не прибегая к литературной поденщине, статус; это, в свою очередь, поставило его в унизительную для поэта зависимость от литературно-издательской бюрократии.
Именно она, воспользовавшись выступлением Горнфельда, нанесла Мандельштаму удар, который он «не мог назвать иначе как катастрофой» (письмо в Федерацию объединений советских писателей, февраль – март 1929 года: III: 475). Этот удар разрушал вынужденную, но дававшую постоянный заработок литературную нишу, в которой Мандельштам существовал в 1920-х годах.
51
См., например, об оценке «по высшей квалификационной ставке – 25 коп. золотом за стихотворную строку» стихов Мандельштама в Госиздате: Динерштейн Е.А. А.К. Воронский: В поисках живой воды. М., 2001. С. 96. С выгодными гонорарными условиями публикации связано настойчивое стремление Мандельштама публиковаться «не где-нибудь, а в Госиздате – главном советском издательстве, претендовавшем на роль абсолютного монополиста в издательском деле», поддержанное в августе 1927 года Н.И. Бухариным (Галушкин А. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме. 3: К истории издания книги «Стихотворения» (1928) // «Сохрани мою речь…». М., 2008. Вып. 4/1. С. 177-180).
52
Некоторый фактический материал (который должен быть отделен от сумасбродных концепций автора) собран в статье: Кацис Л.Ф. Проблема выявления политической реальности в документах О.Э. и Н.Я. Мандельштамов о М.Б. Вольфсоне, В.И. Нарбуте, Н.И. Бухарине // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 310-341. Отметим, что приписывание автором М.Б. Вольфсона к «руководителям советской политической цензуры» не имеет никаких подтверждений.
53
Дневниковая запись 14 февраля 1929 года (цит. по: Летопись. С. 343). «19 книг за 6 лет, не считая редактур», – указывает М.Л. Гаспаров, говоря о переводческой деятельности Мандельштама в 1924-1930 годах (Гаспаров М. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 235).
54
См., например: Эткинд Е. О рыцарях со страхом и упреком // Литературная газета. 1992.13 мая. С. 6; Гаспаров Б.М. «Извиняюсь» // Культура русского модернизма: В приношение В.Ф. Маркову / Под ред. Р. Вроона, Дж. Мальмстада. М., 1993- С. 115; Тименчик Р. Заметки на полях именных указателей [XVI] // Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 272.
55
См., например, предисловие П.М. Нерлера к собранной им ценной подборке документов «дела Уленшпигеля» (Знамя. 2014. № 2. С. 126-141).
56
Цит. по: Нерлер П. Битва под Уленшпигелем // Знамя. 2014. № 2. С. 146.
57
Там же. С. 153.
58
Там же. С. 152.
59
Из письма И.Г. Лежнева Горнфельду, 14 декабря 1922 года; цит. по: Морев ГА. К истории независимой печати 1920-х годов // Тыняновский сборник: Девятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М., 2002. С. 514.
60
В 1923 году, после публикации в журнале «Россия», чьим обозревателем Горнфельд являлся, статьи В.Г. Тана, содержавшей оскорбительные выпады против деятелей белой эмиграции, Горнфельд прекратил сотрудничество с журналом (см.: Там же. С. 513). В 1926 году советский журналист иронически именовал Горнфельда «потерявшим корень в слове ЦИК» (имея в виду анализ Горнфельдом этой аббревиатуры в книге «Новые словечки и старые слова» [Пг., 1922. С. 15]: Жизнь искусства. 1926.1 июня. № 22. С. 11). В целом трудно согласиться с замечанием Е.А. Тоддеса о том, что Горнфельд «по видимости легко вошел в „новый мир“ и получил его признание» (Тоддес Е.А. Мандельштам и опоязовская филология // Тоддес. С. 412).
61
Из письма А.Б. Дерману, 4 февраля 1929 года (Знамя. 2014. № 2. С. 153). Об имевшей место в 1922-1924 годах печатной полемике Горнфельда и Шкловского см. комментарии А.Ю. Галушкина в изд.: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи. Воспоминания. Эссе (1914-1933) ⁄ Сост. А.Ю. Галушкина, А.П. Чудакова. М., 1990. С. 526.
62
Гаспаров Б.М. Указ. соч. С. 114.
63
Там же.
64
Узнав о выступлении Маяковского против Мандельштама на Конфликтной комиссии Федерации писателей, Горнфельд пишет Р.М. Шейниной 27 мая 1929 года: «Из членов Комиссии особенно ругал Мандельштама Маяковский – едва ли по принципиальным, верно по личным мотивам» (Знамя. 2014. № 3. С. 144).
65
В письме правлению ВСП, 10 января 1929 года (Там же. № 2. С. 152).
66
Из письма Горнфельда Дерману от 20 октября 1928 года (Там же. С. 142).
67
С.Б. Рудаков позднее (в связи с одним из эпизодов «саморекламы» Мандельштама в Воронеже) охарактеризовал этот комплекс как «манию величия, как следствие жизненной загнанности при фактически первоклассных литературных данных» (Рудаков. С. 100).
68
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка ⁄ Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова, Дж. Мальмстада, подгот. текста Т.В. Лавровой, А.В. Лаврова, Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 410.
69
Инцидент был связан с буквальной (денежной) недооценкой, по мнению Мандельштама, его архива при рассмотрении на предмет покупки Государственным литературным музеем. Заметим, что синхронные закупки бумаг из личных архивов Андрея Белого (см.: [Белый Андрей] Дневник. 1932-ой год // Литературное наследство. Т. 105: Андрей Белый. Автобиографические своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные записи. Дневники 1930-х годов ⁄ Сост. А.В. Лавров, Дж. Малмстад. М., 2016. С. 971, 975; коммент. М.Л. Спивак), М.А. Кузмина (см.: Дневник Михаила Кузмина: архивная предыстория ⁄ Сообщение С.В. Шумихина // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. ⁄ Сост. и ред. Г.А. Морева. Л., 1990. С. 139_145) и А.А. Ахматовой (см.: Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой: 1889-1966 ⁄ 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 276) не вызвали никаких взаимонепониманий между ними и Бонч-Бруевичем.
70
Рыкунина Ю.А. Владимир Гиппиус о Мандельштаме, Ахматовой и литературных поколениях // Литературный факт. 2020. № 4 (18). С. 333. Ср. синхронную характеристику Мандельштама как «большого неудачника» в воспоминаниях (1932) О.А. Ваксель (Ваксель О. Воспоминания ⁄ Подгот. текста И. Ивановой, Е. Чуриловой // «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи Ольги Ваксель ⁄ Сост. А.С. Ласкина. М., 2012. С. 129).
71
См., например: Кофейня разбитых сердец: Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама ⁄ Публ. Т.Л. Никольской, Р.Д. Тименчика, А.Г. Меца, под общей ред. Р.Д. Тименчика. Stanford, 1997 (= Stanford Slavic Studies. Vol. 12); Тименчик Р.Д. Заметки комментатора. 7: К иконографии Осипа Мандельштама // Литературный факт. 2018. № 10. С. 368-384.
72
Рудаков. С. 63; историко-литературные коррективы Е.А. Тоддеса к этому высказыванию Мандельштама (относительно символистов и формалистов) см.: Там же. С. 20. Особо оскорбительным было для Мандельштама соединение недооценки его как поэта с персональными претензиями внелитературного характера или намеками на них – сохранились свидетельства его чрезвычайно резкой реакции на подобные случаи: см. его письма к М.А. Волошину от 15 июля 1920 года и к С.З. Федорченко от 9 июля 1924 года (III: 376, 390); ср. запись П.Н. Лукницкого от 12 мая 1926 года (Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. М.; Paris, 1997- Т. II: 1926-1927. С. 152). Текст Горнфельда, использовавшего метафору «краденого пальто» (замененного в ответе Мандельштама на «шубу», отсылающую к «семейности» литературы из «Шума времени», в пренебрежении которой Мандельштам и упрекает Горнфельда), несомненно, вставал для поэта в этот же болезненно-чувствительный ряд.