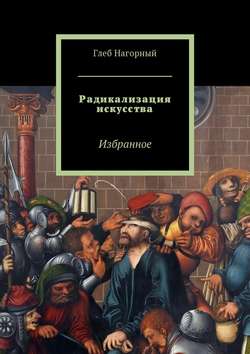Читать книгу Радикализация искусства. Избранное - Глеб Нагорный - Страница 13
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТДЕЛЫ
Шарманка с вертепом
Оглавление– Выход первый – изменить свое окружение, – помедлив, произнес Амадей Папильот. – Но поскольку, с известными оговорками, мы все живем в замкнутом пространстве, то изменить свое окружение не можем. Альтернативным вариантом является возможность сменить место жительства. Опять же, даже если бы была у многих такая возможность, а именно – выйти за пределы Здания, то где гарантия того, что мы не попадем в такой же, если не в худший, Массив, в котором нас, в придачу, Никто не знает и вовсе не собирается устраивать нашу жизнь? Тогда существует третий, единственный, выход, которым пользуется очень малое количество служащих Здания, – изменить свое отношение к происходящему. С одной стороны, звучит заманчиво, поскольку тогда отпадет надобность искать виноватого, а с другой – задача зачастую невыполнима… – сказав это, Амадей Папильот нагнулся и поставил на стол ящик с вертящейся ручкой. – Знаете, что это?
– Нет.
– А вы «выньте плейер из ушей» и сконцертируйте внимание, – кривясь от микшированной музыки, посоветовал Папильот.
– Попытаюсь, – ответил командируемый, всматриваясь в миниатюрные фигурки, находящиеся внутри, в которых легко угадывались обезличенные из «Граммофона». Амадей крутанул ручку: враз грянули невидимые цимбалы, громыхнули трубы, заголосили евнухи, и фигурки в ящичке, медленно задвигавшись, разбили на мелкие осколки стекольный скрежет, рожденный пультом ди-джея.
Флёр склонился над ящичком: на сцене в пароксизме страсти копошились миниатюрные копии Целлюлозы и Глюкозы. Сизо-малиновые клиенты «Граммофона», напоминающие фарфоровых пустоголовых куколок, пялили на подмостки слепые глаза. В глубине виднелись две маленькие фигурки: одна в сером пиджаке, бурых брюках со стрелкой, малиновых штиблетах и оранжевой сорочке с изумрудным галстуком, другая – в свалявшихся буклях и пожившем концертном платье. Обе склонены над ящичком, формой походившим на Амадеев, но по размеру спичечным, в котором проглядывались крохотки еще меньше.
– Заткни оральню! – вдруг рявкнул с соседнего столика зобатый многощёк в клубном пиджаке и клубничном кис-кисе30, помешивающий в чашке жидкий кофе «JACOBS» такой прямой и короткой ложкой, что она отдаленно напоминала палец дауна. Рот у него был мокрый, слюнявый, с вывернутыми губами, в уголках которых всё время что-то пузырилось. Весь его облик вызывал отвращение и напоминал неимоверных размеров гору сала с розовыми прожилками, но почему-то в галстуке. – Эй ты! К тебе, к тебе, потертый, обращаюсь. Сделай тише, я ди-джейской иглы не слышу… Я к-к-о-о-му-уу ска-а-за-а-ал!!! Хайло сверну!!!
– Конечно, конечно, – миролюбиво замахал протертыми рукавами Амадей, сменил валик на другой – с тихой заунывной мелодией, приглушил звук, наклонился к собеседнику и заметил:
– Ди-джей побеждает евнухов… А растворимый кофе – молотый.
– Еще раз такое сделаешь, я тебя уроню! – пообещал многощёк с «эффектом хомяка» на плечах, пригрозив «пальцем дауна» со своего стертого рыхлым задом места. Отпил коричневатой бурды, поморщился и, хвастовски поигрывая неотпоротой пошлой лейблой «VIP» на рукаве беспредельно клубного пиджака, потянулся к сахарному дозатору. Через минуту, после непродуктивных встряхиваний и бессмысленных заглядываний в металлическую трубку, многоэтажно выругался и принялся отвинчивать крышку. – Руки бы пообрубал тому, кто это придумал!
Амадей в ответ лишь скорбно улыбнулся, подумал, что дозатор со склеившимися кристаллами одержал победу над сахарницей с рассыпчатым белым песком, и чуть слышно, не для ушей многощека, процитировал кого-то неизвестного:
– «Гулял он целых три денька… при галстуке и при деньгах…» – и тут же добавил: – Много званых, но больше пришлых.
– Подождите-ка, но ведь это… – Флёр указал на маленькую фигурку с оранжевым воротником рубашки, которая вдруг исчезла, а на смену ей пошли быстро сменяющиеся картинки.
В беспорядочном смешении кадров отчетливо выделялись следующие:
– мощный тип в белом халате с фонендоскопом, пьющий что-то прозрачное из колбы в компании рыжей веснушчатой особы;
– три субъекта – один в полосатой пижаме с нездоровым лимонным цветом лица, другой – в дымчатом костюме с угольным чемоданчиком, сухолапый и беспалый, третий – полуголый, с одухотворенным личиком, в позе лотоса, с кучей разбросанных вокруг него фетишей;
– хромающий по развалам и выбоинам голубоглазый вояка с черной атласной лентой в блондинистых волосах, в пурпурном камзоле, розовых панталонах, желтых чулках, хрустящих башмаках с пряжками и абсолютно не вязавшимися с этим обликом рюкзаком за спиной, кожаной кепкой на голове, левая рука сжимает противоастматический ингалятор;
– лысый старик, облаченный в мантию, с украшенным кроличьими ушами курительным прибором – не то трубкой, не то кальяном;
– идеально сложённое существо с ангельскими чертами лица и адским пламенем в глазах;
– некто с царственной посадкой головы и плебейским лицом, сидящий на носилках, в бурачковом кашемировом пальто, в нахлобученной на самый лоб шляпе-треуголке, со щегольской барсеткой, сотовым телефоном и брелоком от «мерина» в руках;
– прищуривающиеся плохо видящие служаки одного из отделов;
– толпа с табличками (Флёр успел прочитать несколько: «Опус», «Памфлет», «Вирши» и «Панегирик»);
– тип в искрящемся костюме, держащий в руках длинный список-рулон;
– крыс в сюртуке, на всех перламутровых пуговицах которого была выгравирована одна и та же эмблема – играющая с собственным хвостом мышь;
– два пьяных обнявшихся приятеля с корешками позвоночников
и, наконец,
– пачка испещренных лазерными чернилами желтоватых листов бумаги.
После чего всё вернулось в исходное положение – в зал «Граммофона». Флёр протянул руку к фигурке, копирующей его самого.
– Руками не трогать! Здесь вéки смыкаются с векáми!.. – прикрикнул на него Амадей Папильот, отодвинув ящичек подальше.
– А что я видел? – отпрянув, спросил командируемый.
– Полагаю, что многое из увиденного вами принадлежит архиву, но вход посторонним туда воспрещен… Поэтому лучше не будем о нем говорить – не всяк входящий выходит оттуда… А вот это… – Амадей похлопал по ящичку. – Это шарманка с вертепом. Вы знаете, что такое вертеп?31
– Догадываюсь.
– Но вряд ли знаете, что вертеп – это каждый из нас в миниатюре. И пока мы будем видеть в нем что-то одно – белое или черное – мы никогда не выйдем из порочного круга заблуждений. Из бессмысленных поисков виноватого. Для большинства вертеп – это не люлька с младенцем и овечками, а грязный бордель с распутными девками, в котором место люльки заняла кровать с мятыми простынями, а тонкорунных овец-рамбулье сменили зубоскалы, подмявшие под себя не одно стадо. И как бы мы ни пытались изменить свое отношение к вертепу, как бы ни стремились доказать, что внутри его видим волхвов, а не волков, а разбросанная кровать – не что иное, как колыбель, как рождение нового, мы не сможем отрицать очевидный факт, видимый глазу. Это не рождение нового – это его распятие. Мы изменимся, но изменится ли вместе с нами сущее? Изменится ли это сущее для других? Нет, и еще раз нет. Они всё равно будут гадить в наших яслях. Вы правильно подметили: проблема – в нас самих. Но одни это понимают, а другие нет. Поэтому и ищут виноватого, Того, Кто якобы смял простынь в колыбели, забывая о том, что на простыне лежат они сами. Мы так устроены. Мы не хотим меняться. Нам легче изменить другого. И что в итоге мы имеем? Монастырь в притоне и богохульца у аналоя. Но так не бывает… Вот вы думаете, мне приятно торговать всем этим? И я могу это изменить?
Амадей Папильот, сдвинув заднюю стенку на шарманке, просунул внутрь руку и достал цветные фантики. В беспорядке раскидал их по столу. Круглые, квадратные, фигурные, ребристые, шоколадные, перцовые, светящиеся, с усиками и рожками, с запахом ванили и земляники, в виде зайцев и елочных игрушек, с мелодией и без. Амадей нажал на один из них, и фантик жалобно пискнул.
– И вы этим торгуете? – изумился Флёр.
– Дистрибьюирую… – поперхнувшись, ответил Папильот, – чтоб они себе подобных не плодили. До сих пор, кстати, не уяснил, что же это слово означает…
И внимательно посмотрел в прозрачные глаза командируемого. Затем пожевал во рту очередную тягучую мыслинку и, глянув на утомленных сестер-Целлюлоз, семенящих на полусогнутых за кулисы, произнес:
– Вот-вот, и вы туда же – осуждаете. Но ведь жить-то мне на что-то нужно, правильно? Пенсия и приработок вяленькие – премий не платят. Сейчас в Здании у всех одно чувство появилось: ощущение перманентного денежного напряга, все остальные чувства как-то сами собой атрофировались. Вместе с честью и достоинством. Своего рода эмоциональная обстипация32. Запор чувств, если хотите… С другой стороны, а что делать: у кого кошелек, тот, как говорится, и смеется, а остальным приходится наступать на дужку собственных очков, на стекла собственных пенсне, чтоб не видеть всего этого… – Амадей устремил пронзительный взгляд на сцену.
Целлюлоза с Глюкозой испарились, мелодия захлебнулась в нотах, а ди-джей заглох. Послышались скрип колесиков и громыханье тяжелого катящегося предмета. Прощелыжный голос конферансье возвестил: «Сирена, дамы и господа!» – и на сцену из кустов-кулис выкатился рояль. За ним выскочил тапер, нос и верхняя губа которого напоминали небольшой хобот млекопитающего из отряда непарнокопытных. Раскисшее помятое лицо цвета обезжиренного кефира, пьяные мятые штаны, усталый пиджак с вытянутыми рукавами, выглядывающие из-под лацканов подтяжки, разномастные туфли и черно-слоновая, под цвет замусоленных клавиш, «серебряная» нить говорили о том, что жизнь удалась. Следом выплыло раздекольтированное «нечто», в черном расшитом бисером балахоне до пят и пожеванной, будто магнитофонная лента, «серебряной» нитью. Подтяжки щелкнули, и «нечто», по габаритам не уступающее роялю, с хрустом распрямив тулово, заголосило.
«Плясовая колыбельная» – примерно так можно было окрестить раздавшееся со сцены. Унылое, перемежаемое всплесками гортанных срывов и западающих клавиш. «Нечто» не пело, оно – вопило. «За жисть, за братву, за маруху». Далее шли кабацкие «ноктюрны», «рапсодия» о «мурке» и непременная «фантазия» на тему «гоп-стопа». Трели с фальшивыми слезами от потекшей туши и «пером-щекотуном» в подреберье. Это была не Сирена – это была какая-то раскормленная фурия.
Обезличенные вначале мрачно внимали, в такт подергивая бровями и брылями, но вскоре не выдержали и пошли в пляс. Кто-то спортивно одаренный, разбрасывая вокруг себя купюры, швырнулся на пол и затрясся, словно камбала на песке. Около него угрем завилась девица без слуха. Карась – в кроссовках, треска – в трико, плотва – в платине и сардина – в сардониксах. Вокруг них хищными пираньями замельтешили остальные. Тонкое запястье одной селедочной охватывал массивный браслет. Из-под браслета виднелись точки – не то родинки, не то уколы. Обезличенные подвывали, нещадно перевирая слова. Сам танец напоминал нечто среднее между вальсом и гопаком. Флёр с Амадеем молча наблюдали, ибо разговаривать было невозможно. Потянулась долгая нуга безвременья. Но через какое-то время ритм уже держал только шлепнувшийся на пол – он просто конвульсировал. Без кульбитов, но достаточно чувственно. Остальные – пританцовывали как-то, пели о чем-то своем и дышали кое-как. Каждый был сам в себе, а стало быть – самодостаточен.
Наконец, «нечто», исполнив еще пару песен на бис, отработало программу, жадно сгребло «пятихатки» толстопальцевой пятерней в золотых кольцах и загромыхало в сторону кулис, по пути утирая кулачищем растекшуюся по щекам тушь. Рояль укатил следом, оставив в память о себе старую шутку о том, что если все клавиши – черные, то следует поднять крышку. За ним ускакал «тапир» в непарнокопытных туфлях: левом – блеклом, остроносом, с набоечным каблуком, и правом – темно-фиолетовом, с квадратным мысом и стертой подошвой. Отдышавшись, танцующие потянулись к бутылям – врачеваться. Из-за кулис на смену Сирене c «лабухом» снова выползли изможденные Целлюлоза с Глюкозой с тряпками языков, завязанных узлами, и заняли «забронированные» места у накренившегося шеста. Ди-джей воспрянул – вновь понеслись утомительный обмен бактериями из несвежих ротовых полостей и рваное скольжение потных тел по залапанному кем-то из девиц вяло эрегированному шесту.
– Эх… Вот всегда так получается: кому палитра, а кому – политура… Только почему-то художники у нас политуру пьют, а политурщики картины заказывают… – подвел итог происходящему Амадей. – Одни, как говорится, килькиными глазами закусывают, а другие – семужью икру на вернисажах лопают… Но к делу, отвлекся как всегда… Я ведь вам их показал не для того, чтобы, погоревав, попросить у вас платок для протирки очковых стекол, я вам их для примера показал, – он кивнул на фантики. – А пример очевидный. Как бы я их ни называл, как бы ими ни пользовался в своих целях, ну, скажем, магистр Эвтаназ, надевающий их на ультразвуковые зонды, или, к примеру, Герцог, который защищает ими дула «огнестрелов», какое бы им ни придумывали завуалированное название, – «плащ», «конверт» или «изделие №2», – они всё равно останутся тем, чем являются. К ним можно изменить отношение – использовав не по прямому назначению; их можно изготовить из внутренней пленки панциря черепахи или из рога, из рыбьих пузырей или кишок животных, из сока гевеи или гипоаллергенной латексной резины; их можно надуть, как воздушный шарик, или наполнить водой, как мешок; смазать силиконом, обработать спермицидной смазкой и проверить электроникой; разнообразить их толщину – от 0,03 до 0,16 мм; придать им любой цвет – от кораллового до кокосового, сделать их ребристыми, цветными и ароматизированными, – а суть их всё равно не изменится: чем были, тем и останутся.
Папильот протянул один сверкающий в темноте фигурный фантик из латекса кукловатой Лайкре – с «серебряной» нитью цвета грошовой, потерянных надежд, бижутерии, – которая взамен угостила его пивом, и сгреб оставшиеся в шарманку.
Глазливая магдалина, виляя тазобедрием, чуть прикрытым микроюбкой, – походка «восьмерка на пятерку», – отставив в сторону наманикюренно-прокуренный пальчик и распространяя вокруг дешевый запах дезодоранта «Fа-пачули», удалилась. На прощание, козырнув и прозвенев облупившимся колокольчиком, вдетым в ноготок мизинца, шуточно проворковала: «Честь имею».
– Имеешь ли, лоханка-фу-флёрка, губки бантиком, попка – крантиком, душа – фантиком… – пробормотал Амадей, провожая ее взглядом, полным скорби и осуждения. И вдруг совершенно неожиданно, с вожделенно-раздевающими нотками, свойственными усыхающим старикам, сочно прошептал: – …и юбка у тебя по самый сквозняк…
Лайкра тем временем подошла к типу в блескучем костюме, с нежным сутенерским личиком и увиливающими глазками. «Серебряная» нить у него была паразитирующей – в полипах. Ширинка на брюках – микроскопической. С булавочную головку.
– Твоя доля, Люстринушка, – отсчитав купюры, прочирикала Лайкра и, преданно заглянув ему в глаза, облизнула перламутровое сердечко губ. На мгновение показался не то птичий типун, не то пирсинговая, для услады, горошина в языке.
– И это всё? Это всё?! Я спрашиваю, это всё?! Я ее на руках ношу, магнолию эту, а она…
– С клиентами напряг… – заикаясь, потупила взор Лайкра.
– Клеиться лучше надо, – взревел Люстрин, швырнув ей купюры. – Я ее на руках, а она…
– Я буду стараться… Я люблю тебя… – мурлыкнула она.
– Ты меня совсем, совсем не любишь, – злобненько процедил он. – Я о ней забочусь… Лелею, нежу, холю… Всё ей, всё ей, а она…
– Я постараюсь… – скорчив обиженную гримаску, прошептала Лайкра.
– Уж постарайся. А то продам Формалину, – в сердцах бросил Люстрин, выскочив из зала.
Лайкра, тряся асекссуарами и взбитой, что мусс, пергидрольной халой, нагнулась, собрала купюры, спрятала их в бархатном, в проплешинках, ридикюльчике и, сжав попку на выдохе, поцокивая каблучками, скользнула к обезличенным. Когда она подплыла к столам, кутящие раздухарились:
– Ах, какая у нас кокетка спинки!
– А кокетка переда так вааще!!! – восторженно ляпнул некто отечно-лайковый, погрязнув в лестничном остроумии и приклеившись к девице легкого поведения, но тяжелой судьбы. – Хороша мурена! Ногастая! Дай-ка я тебя по баннеру кликну!
– Не получи по сайту, – завистливо цыкнул собутыльник с вертикальным и звенящим, как рюмка, глазным хрусталиком, потянувшись потной рукой к бутыле «Dom Perignon» в холодной испарине. После «галантно» шлепнул Лайкру чуть пониже спины, отчего в разные стороны от юбки, как при фейерверке, пошли искры, а хлопок, дойдя до кулис, вернулся и эхом отозвался в конце зала.
– Мальчики, мальчики, не ссорьтесь, на всех хватит, – испуганно защебетала шалаватая Лайкра, усаживаясь на колени восторженного босоголового мордана, при этом строя глазки другому – с лицом, плавающим в подбородке, и мясистыми, как охотничьи сардельки, пальцами, венчающимися крупными и розовыми – словно куски ветчины без прожилок – ногтями. Раскиданные по лицу глазки напоминали раззявленные пасти фисташек, а трехдневная плесень рыхлых щек – «небритость» сыра «DORBLU». Обезличенный чем-то походил на дорогой фуршетный стол, но по какой-то причине малоаппетитный. – С вами, ребята, так хорошо, спокойно… А деньги у вас еще остались?..
Флёр тем временем принялся внимательно оглядывать «скромницу» с противными ногами и накладными ресницами, которыми она восторженно-глупо хлопала, кокетливо подмигивая сразу обоим корефанам, но так и не смог уяснить, каким же таким хитрым местом она берет окружающих за гульфики: ажурные чулки на резинках c переизбытком den’ов на лайкровой чешуе; за переизбытком – пупырышачья гусиная шкурка. Вся какая-то потрепанная, жалкая, с потертыми, поеложенными локотками, варикозными икрами и ощетинившимися ежами подмышек. Без силикона и с обвислостями, маленькая и пероксидная. Даже швы на чулках перекошенные… Не щучка, а какой-то большеглазый малек, запуганный хищницами по ремеслу, недобро косящими из-под распушенно-распущенных ресниц с соседних столиков… Впрочем, о «месте», которым выжженная химией гетера «брала за гульфики» обезличенных, командируемый догадался. Не сразу, но догадался.
– Они блестяще понимают друг друга – благородный Люстрин и цветущая Лайкра… Промоутер тел и операторша по оказанию релаксационных услуг, – брезгливо поморщившись, проронил Амадей. Флёр перевел взгляд на Папильота, подумал, что морщины на лице всё-таки гораздо лучше, чем на чулках, и принялся внимать: – Как говорится, ваше Эго плюс наше Либидо, – продолжил шарманщик. – К чему это я?.. А?.. Нет, вы мне всё-таки объясните, почему все блондинки красят корни волос в черный цвет? А? Ну ладно… Так вот… Вы можете утверждать, что вы Герцог, но если отношение к вам не изменится, вы всё равно останетесь кукольником из отдела игровых автоматов. Мало изменить себя – нужно сделать так, чтобы и другие изменили к вам свое отношение. Но и это еще не всё. Изменится лишь отношение, но сама ваша физическая форма будет такой же, какой была. Без плюсов и минусов. Мы же пытаемся изменить то, что изменить невозможно, назвать по-другому, увидеть в вертепе ясли, а не бордель. Не надо! Там есть и то, и это. Но всё зависит от нас самих. И если каждый, повторяю, каждый скажет себе, что там только колыбель, то притон сам по себе исчезнет. Но пока в Здании останется хоть один, кто будет комкать простыню и прятать использованный фант под кровать, – вертеп будет иметь два лица. И одно будет мятым-мятым. Полюбуйтесь… эпигоны в «погонах», прозелиты в «зелени», – вытянув морщинистую черепашью шею, Амадей кивнул в сторону приоткрытой двери, за которой находился малый карточный зал. Пять силуэтов облепили стол: косопузый банкомет, повернутый почему-то спиной к двери, и четверо понтеров.
«Серебряная» нить у банкомета была похожа на нить гардеробщика, но вместо монет на ней шашлычились разноцветные фишки-ставки. У понтеров «серебряные» нити были азартно-подрагивающими и неровными. Цвет и форма их нитей постоянно менялись в зависимости от того, выигрывали они или нет. Когда банкомет подвигал в сторону одного из понтеров крупный выигрыш, «серебряная» нить у последнего становилась густой, с вплотную нанизанными фишками; соответственно, у других – нити изрядно редели, и между фишками можно было расставлять кружки с пивом.
Один из понтеров, одетый в розовый двуборт, веерно обмахивался червонным королем и тузом масти вырванного сердца. На ногах у него сияли лаковые туфли на чрезмерно высоком каблуке, из нагрудного кармашка – очень маленького, почти грудного, который хотелось покачать, – торчала чахлая роза цвета неразделенной любви. Мизинец украшал массивный перстень в виде доминошины с шестью очками. Понтеру фартило, но он отчего-то вздыхал, то и дело нервно оглаживая шелковистую бороденку и поправляя шейный платок. Лазурный, фуляровый. И в маргаритках. По шафрановому – точнее, желто-оранжевому с коричневым переливом – лицу трусил нервный тик. Беспокойный взгляд перебегал с груды купюр, возвышавшейся около блюдца с окурками, на декольтированную брюнетку-пик с приколотой к платью бутоньеркой, жестким абрисом лица и обрезом носа, ревнивым глазом косящую на платок в маргаритках. Вдруг дама пик неожиданно громко пробаритонила: «Перебор» и, скинув карты, – мужлан в берете и две шестерки, – полезла в сумочку за пудреницей. В негодовании фыркнув, прошлась подушечкой по черноватой поросли над губой и профундила: «Весь вечер фуфляк идет». Четвертый и пятый, один – с бегающими глазками, вулканическими прыщами на скулах и перевернутой девяткой на кожаной спине, другой – в солидной тройке с бамбуковой тростью, длинноногий и худотазый, хором произнесли: «Еще», – и банкомет протянул каждому по карте. Оба безмолвно зашевелились, синхронно сбросив карты на стол.
– А у меня «Black Jack», – медленно прошептал тип в розовом двуборте, показав карты банкомету. Тот нехотя двинул ему выигрыш.
В глубине казино обнаружилась еще одна дверь, ведущая в другое, рулеточное, помещение – без окон и настенных часов. Над игорным столом возвышался крупье, меланхолично гоняющий шарик.
– Этого не может быть, этого просто не может быть! – удивлялся некто с животом-бурдюком, наполненным не вином, а фишками. «Серебряная» нить у него была выкрашена в красные и черные прямоугольники. За столом он играл один. На спинке стула висел пиджак с таким густым ворсом, что казался просто волосатым. Шарик, описав несколько кругов, затрясся, эпилептически подпрыгнул и в энный раз за вечер застыл на «Zero».
– Хорошо. Дай-ка я на «ноль» поставлю.
Крупье лениво улыбнулся и, вытянув свою «серебряную» нить в виде загребущей лопаточки с длинной ручкой, забрал предыдущую ставку. Крутанул рулетку. Шарик поскакал. Двуцветная «серебряная» нить играющего напряглась.
– Тринадцать! – констатировал крупье, выбрасывая лопатку.
– Не может быть! – удивленно выдохнул игрок, опорожняя бурдюк. – На тринадцать!
– Двадцать пять… – через какое-то время заявил крупье, расправив иронические мышцы лица в ухмылке.
– Чтоб ни разу за вечер… Как же это понимать? – выдавив последнее из бурдюка, изумился «сухой» пьяница, и «волосы» на пиджаке встали дыбом. – Двадцать пять. На все!
– Судьба, надо полагать… Карма, рок… – фатально пожал плечами крупье, швырнув шарик на вращающуюся рулетку.
Благо, магнитная педаль под столом работала безотказно.
– Скажите, кто, по-вашему, из них главный? – спросил Папильот. – Я имею в виду тех, за карточным столом.
– Судя по поведению, тот, кто одет в тройку, – незамедлительно ответил Флёр, вглядываясь в тугое «зашнурованное» лицо одного из понтеров.
– Почему вы так считаете?
– Он самый независимый.
Амадей склонил голову набок и хитро посмотрел на командируемого:
– И вы полагаете, что это дает ему право называться первым среди неравных? Заблуждаетесь. Он не более чем напыщенный червовый туз. Этот туз червив. Всё остальное поза. – Папильот на миг оторвался и взглянул в сторону сцены, на которой Целлюлозу с Глюкозой сменил гибкий Нейлон в стрингах, с неоновой, искрящейся «серебряной» нитью. Поигрывая литыми мышцами на поджаром теле, он подтягивался на шесте, напрягая крепкие ягодицы и зацепившись стальными икрами, висел вниз головой; далее, спрыгнув, жонглировал ножами, размахивал веером со стальными иглами, вертел мечом и, что уж совсем невероятно, глотал огонь. Это было красиво, но скоротечно. Ибо один из заглотов попал ему не в то горло. Нейлон вспыхнул, заискрил «серебряной» нитью… и вдруг сгорел. В тот же миг некто отожравшийся и предельно гетеросексуальный, сидевший в партере, сделав своего рода контрольный выстрел, швырнул на сцену окурок и рявкнул: «Долетался голубь!» Администрация тут же подсуетилась: на сцену вскарабкался кто-то из персонала с усталым, озабоченным и голодным лицом вечного студента, вооружился веником, небрежно сгреб в совок остатки Нейлона и скорбно удалился. От многодневного недоедания «серебряная» нить у него почти не проглядывалась. Место же стриптизера снова заняли изможденные донельзя баядерки33.
– Ну тогда, наверное, тот, кто выиграл? – предположил Флёр, не обратив внимания на происшедшее.
– А где гарантия, что этот валет не окажется просто-напросто дурачком и в следующий заход не поставит весь свой капитал и, соответственно, спустит всё до нитки? – отозвался Амадей, скорбно вздохнув.
– Неужели дама?
– А чему тут удивляться? Они бывают выше валетов, но к нашему случаю это не относится. Тем более что она такая же дама, как тот червивый туз. Не фиалка, словом.
– Серьезно?
– Абсолютно. Классическая мужебаба.
– Вот те на! – подскочил Флёр.
– Бывает.
– Тогда… постойте, неужели – тот невзрачный бритый затылок?
– А почему не банкомет?
– Ну, не знаю, – командируемый развел руками, – я как-то о нем не подумал.
– И правильно сделали. А теперь я вам объясню, почему самый главный тип среди них – это тот, кто облачен в кожаную куртку. – Амадей Папильот кивнул в сторону кожаного молодца с перевернутой девяткой на спине. – Взглянем на всех по очереди. Каждый из них пытается изменить себя, не меняя при этом свою сущность. И все как один повторяются. Туз рядится в тройку? Дама строит из себя валета? Валет думает, что он выиграл? Всё это лишь иллюзия – иллюзия формы. И выглядит она достаточно нелепо и призрачно. Вместо того, чтобы туз был настоящим тузом и набирал одиннадцать очков, он выглядит как «пассивная» единица. Все знают, что он из себя на самом деле представляет, и как бы он ни тужился, как бы ни пытался прикрыть свое истинное содержание – полноценным тузом ему не стать. Дама? Ей никогда не стать дамой, что бы она на себя ни напялила. Это не краля – это «фря». Валет, который выигрывает? А не «валетный» ли он? Не дурачок ли? Ведь все знают, что он лишь опытный, но, к его несчастью, неосторожный и амбициозный «шулер-дергач», которого рано или поздно поймают за руку и «выпишут бубей». Банкомет? Но деньги банкомета принадлежат «Граммофону», и как только банкомету перестанет везти, его просто, как грязный носовой платок, сменят. Для них жизнь – иллюзия, крапленые карты, крапьё, если хотите. Каждый из них пытается обмануть других, но забывает, что они все слишком давно знакомы. И тут не форму менять надо, а содержание. Ведь это только по форме «Black Jack», а по сути-то – «очко»… То ли дело перевернутая девятка! Вот кто не собирается никого обманывать, потому что они сами обманываются. Его принимают за шестерку, но только ему одному известно, что они без него никто. Смотрите, смотрите, как он себя ведет. Он нужен всем. Он для них и швец, и жнец, и на дуде игрец. – Амадей Папильот кивнул в сторону бритоголового, отпустившего комплимент даме-пик. Та зарделась румянцем. Тут же в его руке вспыхнула зажигалка, и он поднес огонек тузу, который, вытащив длинную тонкую пахитоску, вставил ее в мундштук. Далее, весело подмигнув валету, дал понять, что не заметил нервных одергиваний манжет. Со светящей золотыми фиксами улыбкой многозначительно кивнул банкомету, заподозрившему за столом неладное и незаметно щелкнувшему пальцами. Кожаный молодец незамедлительно раскланялся и, поправив черный ворот водолазки, вышел. Подозрительно при этом глянув на командируемого.
Через секунду в зал ворвалась толпа синеруких капкан-молодцев – с наколотыми на костяшках пальцев перстнями. Бетонные подбородки дергались в перечавкиваниях жвачек. Взгляды – отсутствующие. Мысли – загноившиеся. Резиновые змеи, утопив головы-наушники в пещеры ушей, огибали одеревеневшие шеи.
Процессию возглавлял агрессивно-деловой администратор, взъерошенно-крашеные волосы которого напоминали перекошенную облупившуюся корону. Крупитчатое личико эгоиста на опереточных ножках. Перевернутая желеобразная фигура – бедра шире плеч. Ярко выраженные седалищные мозоли и выветрившийся запах мужчины. Осторожные женские шажочки и плотоядный взгляд растлителя – одновременно застенчивый и рыскающий. Дорогой клубный блайзер «Клифт»34 палевого цвета, узкие штиблеты с наборным каблуком, алая рубашка-апаш и ржавая копна волос. На «серебряной» нити – одиноко болтающаяся «золотая» фишка без пробы. Над узкой склочной губой – рваная и жидкая линия усиков-мерзавцев.
На руках жирно одетого администратора восседал скверный малыш с анемичным личиком и фиолетовыми глазками, облаченный в бархатный темно-вишневый костюмчик. Голову его покрывал абрикосовый оладушек – беретик с пупочкой. Пытаясь вырваться из похотливых липких рук, недоросль кривился и куксился. Незрелая «серебряная» нить мальца была издерганной и возмущенной.
В свою очередь, группа охранников напоминала горсть одноцветных жетонов, которую швырнули на пол и слегка пересыпали монетами: крупными по размеру, но мелкими номинально. Отличались «сухопарые и отощалые» только количеством многоярусных загривков и в противоположные стороны смотрящими флюгерами носов.
– Внимание, король! – хихикнул Амадей Папильот, указуя на процессию. – Костюм льняной, душа – шерстяная. Ему сам черт люльку качал.
– Что ж ты, мерзавец, трефу гонишь! – крикнул администратор типу в розовом двуборте, переступая порог «Катрана». Голос у администратора был резким, тонким и по звуку напоминал бьющийся фужер – наглый фальцет, тщетно притворяющийся гулким басом.
– Свинти, пилигрим, – рыкнул один из охранников с нежным взглядом имбецила; переставил Флёра вместе со стулом в угол, а сам, поигрывая стероидными мышцами и поскрипывая «крепкими» носками, источающими сырный запах, прошел к играющим.
– Поклёп, поклёп! – малодушно запричитал тип в двуборте. – Я не мухлевал!
– А что, шеф, может, ему пики выгнуть? – положив разлапистую руку на розовое плечо, задумчиво протянул дебелый мордоворот с мощными бицепсами, крошечной головкой и умилительно дебильным выражением на лице. Палец другой руки застрял в ноздре. Им он изредка выуживал «фарфокли», делал катышки и бросал в стену. От всего этого великолепия хотелось наглотаться рвотных таблеток.
– Не мухлевал, говоришь? А что девятка скажет? – недобро осклабившись и голодно обнажив двоящийся левый резец на нижней челюсти, администратор повернулся к появившемуся типу в кожаной куртке.
– Сам видел, отец родной. Трижды манжеты одергивал. У него еще напарник, кажется, был. Банкомет карты свои слишком высоко поднимал, а тот сзади за дверью сидел и знаки подавал.
– Кто? Где он? – завизжал администратор, напрягая мягкие пластилиновые мышцы.
– Да вот тут сидел. Нету сейчас. Дохлый такой, в сером пиджаке. Вздрогнула фраерская душа – свинтил.
– Этот, что ли? – другой бодигард с «умным» взглядом на утомительно-дурном лице кирпичного цвета показал обкусанным ногтем с заусенцами на командируемого. Во рту у него была жвачка. Жевал он ее не челюстями, а перемалывал всей головой. Тряслась даже лобная кость. Еще не законченный олигофрен, но что-то очень близкое. Говорить ему было трудно, поскольку он привык изъясняться, сплевывая сквозь зубные щербины. Тело же его напоминало огромный воздушный шар, наполненный гелием.
– Точно – он, – мотнул головой тип с кожаной спиной, согласившись с кирпичнорожим, в голове которого копошились личинки каких-то беспорядочных мыслей.
Несколько пар крепких рук тут же вцепились в до смерти перепуганного Флёра.
– Ну-ка, хмырь, пошли, – прозвенел голосом администратор, подав знак охранникам, которые тотчас поволокли командируемого к выходу.
– Постойте! – раздался голос Амадея Папильота.
– Что тебе, минорный? – недовольно отозвался администратор.
– Оставьте его в покое. Он никуда не пойдет, – указал на шарманку Амадей. – У него командировка.
– Тут я решаю, пойдет он или нет, – отрезал администратор.
– Ошибаешься, – тихо ответил Папильот. – В нем уже есть будущее, и в зале Альбинос.
– Где?! Где?! Дави его! – загорланил администратор, озабоченно завертев головой в разные стороны и опрометчиво опустив малыша на пол, который тотчас скрылся в глубине зала, напоследок скорчив администратору злобную рожицу и негодующе дернув абрикосовым писюном-пупочкой на берете.
– Вон, около сцены прошмыгнул. – Амадей Папильот показал на шарманку, в которой жирующе-тусующиеся господа горохом посыпались со своих мест. Они принялись метать стулья, пытаясь наступить на маленькое белое тельце, быстро уворачивающееся от беспокойных ног, и вдруг в какой-то момент все фигурки в шарманке застыли, и только одна – с изумрудным галстуком – медленно пошла к выходу.
Администратор подскочил к Амадею и со всего размаху ударил по ящичку. Шарманка вдребезги разлетелась.
– И что теперь, душа-шелуша? – вяло отозвался Амадей и, словно предчувствуя неладное, заблаговременно снял пенсне. – Думаешь, таким вот глупым физическим вмешательством можно изменить будущее? Дурачок.
– За дурачка ответишь!!! – взвыл администратор, что есть силы саданув шарманщика в глаз.
Амадей, как ни в чем не бывало, продолжал, на этот раз обращаясь к Флёру:
– Заметьте, самой распространенной нашей ошибкой является то, что когда мы пытаемся изменить будущее, то стараемся воздействовать на него извне, в то время как на будущее можно влиять только изнутри, изменив себя, – и, поняв, что вы и есть то самое Здание, полюбить Его всем сердцем, каким бы глупым, на первый взгляд, и абсурдным Здание ни было. Мы и есть Его будущее. Виноватых не надо искать. Виноватых нет, потому что кругом виноваты мы сами. Ведь «Кто крайний?» и «Кто виноват?» – это то же самое. Знаете, как с орехами часто случается? – Папильот бросил двусмысленный взгляд на капкан-молодцев, не уловивших подтекста. – С виду крупные, а внутри гнилые.
Администратор вновь бросился к Амадею, но вдруг боковым зрением заметил промелькнувшую алебастровую фигурку. В какой-то момент он даже не мог понять, откуда она взялась. Казалось, что буквально секунду назад он разбил ее в шарманке, и вот она валяется на столе, но не менее очевидным фактом было и то, что здоровый и невредимый Альбинос бежал к сцене, а беспокойные ноги-клёш подвыпивших обезличенных пытались то ли увернуться от него, то ли, напротив, наступить. Зал медленно, но верно наполнялся агрессивностью, точно мочевой пузырь разбавленным пивом.
– Альбинос! Альбинос! – взвизгнул что есть мочи администратор, отчего на столах лопнуло несколько фужеров. – Мочи его!
– Он тут ни при чем, – мягко заметил Амадей. – Причина в нас; если нам что-то не нравится, то следует просто очень хорошо задуматься, а стоит ли это не понравившееся менять? А может, может – это и есть мы сами? Может, это нас следует менять? К сожалению, мы этого не понимаем. Поэтому будущее будет таким, каким должно быть. Не овчина с почтенной овцы, а смушка с новорожденного ягненка.
– Замолчи! – рявкнул администратор. – Здесь я решаю!
– Распространенная ошибка всех эгоцентристов, – ответил Амадей. – Более того, решает даже не Альбинос. Вопрос в другом – а стоит ли вообще что-либо менять?
– Уведите его! – приказал администратор охранникам, указав на Папильота.
– Никуда-то я не пойду, – горько усмехнулся шарманщик. – Мое будущее закрыто. А ваше будущее – что ж… Если это можно назвать будущим… шерстобиты недобитые… – и презрительно посмотрел на администратора. Посмотрел, точно плюнул: – Неблагодарный ты. Забыл, за чьи делишки я в архиве сидел? – И в своем стиле закончил: – Здесь термин «власть» синоним к «всласть», здесь слово «страсть» рифмуют с «красть»!!!
– Ах ты! Ах ты! – кривя душой и тушей, администратор невольно потянулся утереться, но вдруг схватился за сердце и принялся жадно хватать воздух перекошенным ртом.
– Органза, господа! – недобро резюмировал Амадей, скрестив на груди покрытые старческой «гречкой» руки и оборвав тем самым словоплеванье и фразохарканье администрации. – Всем вам органза!
Охранники, не снеся оскорбления, бросили командируемого и, применив всю «Камасутру» в речи, устремились к Амадею.
И тут произошло то, чего никто не ожидал. Пользуясь всеобщей суматохой, царившей в зале, Флёр медленной, но верной походкой, так и не отведав корицы со щербатого блюдца, направился к выходу. Охранники метнулись к нему – и вдруг, словно восковые фигуры, застыли на месте. Раздался истошный скрежет микшированной музыки, походящий на предсмертный хрип поперхнувшейся зернами кофемолки; крики и визги, переходящие в ультразвук, поникли оборванными струнами; гаммы и аккорды повесились, а в зале наступила гробовая тишина – ди-джею сломали иглу. Флёр обернулся и застал картину, которую, казалось, где-то уже видел.
Фата грязной тряпкой устало падала со сцены: пароксизм страсти кухарок сцены – Целлюлозы и Глюкозы – оборвался настолько резко, что со стороны могло показаться, будто они, наподобие счастливых влюбленных, в один день и час мирно почили в бозе. Несколько стульев, брошенных в сторону сцены, около которой маячила белая шкурка, так и остались парить в воздухе. Напомаженные типы, размахнувшиеся всевозможными предметами и целившиеся в зверька, напоминали мраморные статуи дискоболов в малиновых пиджаках. В их позах чувствовались возмущение нерастраченной энергии и недонабранность алкогольных градусов. Всевозможные лайкры и линзы, пудрившие выпуклости и впадины на лицах, походили на мумий, которых забыли положить в саркофаги. Картежники «в погонах» имели настолько нелепый вид, что с ними можно было сыграть в «подкидного» без ущерба для собственного кармана. Администратор застыл в позе «будущее эгоцентриста»: ничего не выражающее скорбное неутертое лицо, руки, пытающиеся объять необъятное, левая нога, застывшая в полушаге назад, свалившаяся на пол рыжая корона-нашлепка, скрывавшая плешь. Охранники, часть которых ринулась к Флёру, замерли в неловком полуобороте, медленно, точно в рапиде, сделали по шагу вперед и вдруг резко упали на столы. У одного из пасти вывалился и шлепнулся на пол изможденный комок мятной резинки. Кислотно-щелочной баланс нарушился, и бодигард разом сник, – стало ясно, что Stimorol Pro-Z оказался важнейшей частью его тела. Лишь один Папильот невозмутимо сидел на своем месте, и его мудрый глаз счастливо отливал фиолетовым, да рулеточный шарик остался верен себе, уютно устроившись в лунке Zero и подмигивая гладкой поверхностью обиженно-пустому сдувшемуся бурдюку.
– Амадей! Амадей! – позвал Флёр. – Амадей…
Но Амадей безмолвствовал.
А вокруг него были разбросаны в щепки разбитая шарманка, расколотая люлька с гипсовым младенцем и рваные матерчатые овечки. Командируемый с грустью посмотрел на шарманщика и, ничуть не удивившись метаморфозам, которые произошли с содержимым шарманки, понимающе кивнул и вышел из зала в фойе, где швейцар битый час тряс за грудки вопящего гардеробщика, попытка которого спрятаться под полой песцовой шубы оказалась неудачной. Гардеробщик извивался в мощных руках граммофонного цербера и пытался носками дотянуться до пола, а швейцар, наливаясь свекольной дурнотой, нежно шептал ему в волосатое ухо:
– Ах ты, гадкая свинина! Там еще полбутылки было, я же помню! – он отпустил гардеробщика и принялся лепить из его уха сочный вареник. – Где бухло, я тебя спрашиваю?! Ты – выхухоль!
– Почем знаю? Выдохлось, наверное, – проблеял несчастный.
– Песец тебе, гардероб! – испражнился орально кабацкий пес, и лапы его сомкнулись на горле пьяницы.
– Отпуст-и-и-и…
А в это время по столам, ловко лавируя между блюдами и бокалами, в сторону выхода метнулось стремительное тельце. Оно вскочило на плечо одного из охранников, отчего последний накренился и рухнул на стол, разбив талантливо выдающимися надбровными дугами пивную кружку. Пена взметнулась вверх и, нависнув седой бородой, застыла над Амадеем. Зверек ловко перепрыгнул на всклокоченную голову старика, свесился, лизнул в нос, аккуратно, словно боясь потревожить его сон, спустился на плечо, вытянулся, прицелился и, рисуя длинную дугу, прыгнул в сторону выхода. Острой мордочкой вонзился в выключатель.
«Серебряные» нити померкли, свет в «Граммофоне» погас, и мрак цвета «крести-пик» воцарился в зале.
Стало так темно, что можно было болеть корью.
30
«Кис-кис» (блат. жарг.) – галстук.
31
Вертеп (церк.-слав. – пещера) – 1) ящик с марионетками для представления драмы на евангельский сюжет о рождении Христа; 2) притон, место разврата и преступлений.
32
Обстипация (мед.) – запор.
33
Баядерка – европейское название индийской профессиональной танцовщицы.
34
Клифт (блат. жарг.) – пиджак, куртка.