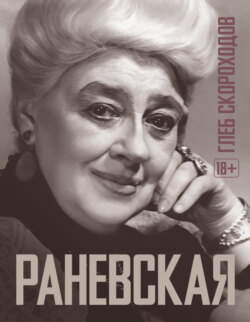Читать книгу Раневская - Глеб Скороходов - Страница 33
«Зоя» и «Батум»
Оглавление– В прошлый раз, когда я принимала Маргариту Алигер, вы вели себя, как аристократ, закончивший дипломатический колледж, – сказала Ф. Г. – Внимательно слушали, молчали, не задавали глупых вопросов и произвели на Маргариту хорошее впечатление. Это похвально. Но я все думала над словами, что вы бросили, уходя: «Такой поэмы, как „Зоя“, надо стыдиться». Почему?
– Мне она кажется фальшивой. И ситуация, когда немцы, поймав девчонку, поджигающую сараи, начинают у нее выпытывать «Где Сталин?», а она произносит свое «Сталин на посту!» тоже, – объяснил я.
– Вы так внимательно прочли поэму?
– Мы ее изучали в школе. Она входила в обязательную программу.
– Печально. Обязательное мы воспринимать не можем, оно сразу становится синонимом насильственного. Не хочу с вами спорить, хотя вижу в этой поэме, не лишенной риторики, чувства поэта.
Маргарита не очень счастливая женщина. Брак с Фадеевым оказался неудачным, одна воспитывает их общую дочь, а за «Зою» теперь ее заклеймили «сталинисткой». И хотя это совсем не так, ее перестали читать и печатать. Она несет это клеймо с гордо поднятой головой и почти не пишет.
Но я думала о другом – о несправедливости, которая ложится на одних и минует других. Почему вы не бичуете меня за десятки ролей, сыгранных в советском дерьме? Напыщенном и просталинском. Меня заставляли? Никто этого не делал. Работаешь в театре – надо играть, хоть и понимаешь, что пьеса так же далека от драматургии, как мы от Марса. Но играешь. Мучаешься, но на сцену выходишь. И слушаешь в сотый раз идиотизмы положительного героя с какой-то немыслимой фамилией, вроде Куздюмов. Куздюмов присутствовал всюду. «Куздюмов, а как вы относитесь к новому почину?» – это из лирического диалога. Или признание, почти шепотом, на прерывистом дыхании: «Я люблю вас, Куздюмов!»
Смеетесь? Мы тоже смеялись, но верили, что это нужно зрителю, что это та самая современность. Не требовалось большого ума, чтобы разыгрывать перед Павлой Леонтьевной пародии на сочинения, в которых все конфликты решались постановлением обкома или резолюцией наркома. Сами пьесы были пародией[17].
Мы играли одну такую в Баку, не помню, как она называлась – «Одна ночь», «Шахтеры» или «Как его зовут?» – это неважно. Суть решалась в последней реплике: герой получает телеграмму от самого Сталина, одобряющего его смелое новаторство по добыче чего-то. Торжественная музыка – хорал, занавес, бурные аплодисменты.
Актер, который должен был за минуту до финала вынести эту сталинскую депешу – он изображал почтальона – и произнести единственную фразу: «Вам телеграмма из Москвы!», напился до положения риз. В театре – никого, занятые в первых актах – давно дома. Помреж кинулся к старичку пожарнику:
– Иваныч, спасай! Выйдешь на сцену, произнесешь: «Вам телеграмма из Москвы!» и все. С меня поллитра!
Старик согласился. На него напялили форменную фуражку и на реплику постучали в дверь.
– Войдите! – откликнулся очередной Куздюмов.
Старик сделал три шага и пробормотал чуть слышно:
– Ван телерана из Моты.
– Что? – Куздюмов повысил голос: – Говорите громче!
Пожарник старался, но от этого его шепелявость только усилилась.
– Не понимаю! – не унимался Куздюмов. – Что вы сказали? Повторите!
– Идите к едреной матери! – произнес старик вполне четко и удалился за кулисы.
Опять смеетесь. И слов осуждения я не слышу. А Булгаков? Почему он не подвергается остракизму за просталинский «Батум»?
– Я читал пьесу. Просталинской ее не назовешь, – сказал я.
– Странно. Мхатовцы именно такой ее считали и хотели ставить к шестидесятилетию вождя.
–Меня удивило другое,– возразил я,– как «Батум» пропустила цензура?! Там в первой же сиене Сталин-семинарист признается сокурсникам приблизительно так: «Шел только что по мосту, пристала ко мне цыганка. „Дай погадаю, дай погадаю!“ Пришлось согласиться. „Великим человеком будешь, великим!“ – нагадала она». По-моему, это звучит пародийно!
– Где вы это прочли?
– В том же архиве литературы и искусства.
– Прав был Михаил Афанасьевич – рукописи не горят. Я и не думала, что «Батум» сохранился. Но вы не знаете, почему он написал эту пьесу. Я спросила об этом Елену Сергеевну. «Миша никогда не изменял себе», – сказала она. И объяснила: «Батум» появился вовсе не от веры. Тут трагедия, вынужденный шаг человека, которого загнали в угол. От череды несчастий и неудач, что обрушились на него, захотелось вырваться из замкнутого круга. И он сделал свою игру: выбрал самый далекий период – самое начало будущего диктатора. И если в молодом герое читаются человеческие черты – они становятся обвинением нынешнего правителя: смотрите, вот что сделала с ним власть. Тут все далеко не так просто.
И не зря же Михаил Афанасьевич был поражен, что пьесу разрешили, и до конца не верил, что МХАТ ее поставит. А когда мхатовцев сняли с поезда в Серпухове – они отправились знакомиться с местами действия – воспринял это не как катастрофу, а как закономерный финал и, по словам Елены Сергеевны, даже улыбался. Ходил по квартире, потирал руки и говорил: «Покойником пахнет!» Страшно, правда?..
17
Разрешение конфликта таким способом – очень старый драматургический прием, в принципе характерный для европейского театра, особенно для пьес эпохи классицизма, где явление либо воля короля (бога, если пьеса на античный сюжет) чаще всего ставила точку в конфликте и была кодой. Именно отсюда выражение «бог из машины», описывающее внезапное явление высшей силы, разрешающей все противоречия. Вспомним хотя бы, чем заканчивается знаменитый «Тартюф» Мольера. Также весьма характерны были для пьес эпохи классицизма и просвещения положительные герои-резонеры, чья функция состояла в донесении до зрителя «правильной» точки зрения. Классический пример: Стародум и Правдин (одна фамилия чего стоит) из пьесы «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Так что советские драматурги и сценаристы не выдумали ничего принципиально нового и были не более «идиотичны» и «пародийны», чем их знаменитые предшественники, творениями которых восхищалась в том числе и Ф. Г. Раневская.