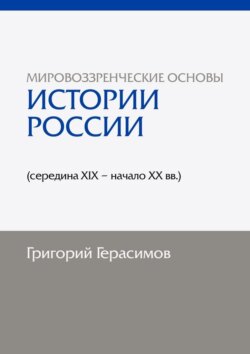Читать книгу Мировоззренческие основы истории России (середина XIX – начало XX вв.). 2-е изд., сокр. - Григорий Иванович Герасимов - Страница 6
Глава II. РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ РОССИИ
§1. Отношения Церкви и государства
Оглавление«Симфония властей» — православный идеал и одновременно принцип практических взаимоотношений между светской и церковной властью, разработанный и введенный византийским императором Юстинианом в VI веке. Он заключается в том, что эти ветви власти находятся в состоянии согласия, гармонии и сотрудничества по аналогии с Божественной и человеческой природой Христа, то есть «нераздельны и неслиянны». При этом в византийской трактовке как духовная, так и мирская власть исходит от Бога.
«Симфония властей» в Византии на практике не вполне соответствовала теоретическим постулатам и часто подвергалась нарушениям и искажениям. В Византии и России это был так называемый цезарепапизм. Его суть заключалась в том, что император претендовал на решающее слово в устроении церковных дел.
Идея, воплощенная в учении о «симфонии властей», имела большое значение в российской истории, поскольку служила образцом, на который и монархи, и иерархи ориентировались в своей политической деятельности. Принципы «симфонии» указывали на те задачи, которые должны решать государство и Церковь: на важность заботы властей как о земном благополучии людей, так и о спасении их душ, и одновременно на недопустимость подмены и смешения средств достижения этих целей.
После падения Константинополя перенятая у Византии идея «симфонии властей» была внедрена в практику строительства и функционирования российских государственных и церковных институтов. Самодержавно-царская, православная Русь должна хранить правую веру и бороться с ее врагами. В связи с этим иноку псковского Елиазарова монастыря Филофею московский князь виделся «единым во всей поднебесной христианским царем», достойным быть не только светским владыкой, но и предводителем православной Церкви, направляющим ее деятельность. Однако главная его миссия была в том, чтобы быть хранителем Божьего престола, блюстителем православной веры на всей земле. Для этого московский князь должен был проводить религиозную политику обращения в православие тех народов в его землях, которые еще не обрели истинной веры. Москва представала как религиозный и политический центр не только национального, но и всемирного масштаба, а это ставило новые амбициозные задачи, в том числе делало необходимой замену титула великого князя на титул царя.
Принцип цезарепапизма, настойчиво проводимый в жизнь, позволил Московскому государству ограничить свободу Православной церкви, поставил ее в тесную зависимость от государства. «Симфонии властей» не получалось: государственная составляющая крепла, а церковная – хирела.
Как цезарепапизм характеризовались отношения российского императора и Православной церкви в ее синодальный период, в силу подчинения Церкви государству. Такова цена, которую заплатила РПЦ за свое привилегированное положение.
Деятельность Церкви в рамках этой концепции включала в себя «принуждение» верующих к почитанию императора как помазанника Божьего, к исполнению всех его законов и к преданности ему вплоть до самопожертвования. Таким образом, симбиоз Церкви и государства на практике подразумевал следующее разделение функций: мирская власть устанавливала для Церкви монополию на истину в делах религии и служила защитой ее привилегий; Церковь же давала государству религиозную санкцию на власть. Государство поддерживало Церковь физическими средствами. Со своей стороны, Церковь помогала государству духовными средствами7.
Из «симфонии властей» следовал и особый статус Церкви в обществе. Православная церковь являлась привилегированной, поскольку она была государственной, но одновременно она находилась в зависимости от государства.
Несмотря на кажущееся доминирование российской государственной власти, она никогда не могла полностью поглотить и подчинить себе Церковь, потому что высшая государственная власть легитимизировалась Церковью и только благодаря своему христианскому служению приобретала ценность для подданных. Поэтому ведущим в этом тандеме является Церковь, поскольку именно она носительница христианской идеи, которая наполняет высоким смыслом само существование государства для его подданных. Без хранения и служения христианской идее Российское государство становится бессмысленным аппаратом подавления – в марксистском смысле.
Отношения Православной церкви и Российского государства строились не только на основе концепции «симфонии властей», но и вытекали из более общих идей, определявших целеполагание государственного строительства, заложенных в христианской доктрине.
Сохраняя свет правой веры, Россия мыслилась как один из главных участников борьбы с Антихристом, этим олицетворением мирового зла. Вся история Руси – России вплоть до XVIII века – это подготовка к одному, самому важному деянию – к битве с Антихристом. Более того, русские православные люди стремились побороть Антихриста еще до его прихода на землю, а если и не побороть, то максимально ослабить его воинство. Поэтому главное предназначение России, как оно тогда понималось, состояло в утверждении на земле Божией правды с целью спасения мира от Антихриста. И задача Церкви и светской власти виделась в приготовлении русского народа ко Второму пришествию.
К началу XVI века в древнерусской религиозно-философской мысли и в общественно-политическом мнении постепенно возобладало убеждение, что светская власть, а именно великий князь Московский, впоследствии – царь, способен взять на себя исполнение Божественных предначертаний. Окончательно идея русского самодержца как истинного помазанника Божия и спасителя остального «изрушившегося» мира утвердилась при Иване Грозном, который первым осознал себя как богоизбранного государя, обязанного спасти мир. И все его деяния направлялись именно этой глобальной идеей. Так идеи, заложенные в христианстве, развитые и принявшие вид вполне определенных религиозно-философских концепций, сформировали целевые установки существования России. Первая: Россия – это особый мир, богоизбранное государство, единственное на земле, хранящее правую веру. Вторая: смысл существования России заключается в сохранении истинной веры для того, чтобы в решающий час вступить в битву с Антихристом, спасти от него мир и тем самым заслужить спасение и жизнь вечную. Третья: силой, способной повести Россию и к земному величию, и к посмертному спасению, стала считаться светская власть, а именно государь, который в союзе с Церковью способен взять на себя исполнение Божественных предначертаний.
Центральной фигурой в отношениях Церкви и государства в России был царь. Понимание идейной сущности царской власти, ее взаимосвязи и взаимоотношения с идеей христианства в XIX веке глубоко раскрыл И. В. Киреевский8. Он был убежден, что царская власть есть прежде всего власть православного царя, защитника и хранителя христианской веры, а значит, государство под его водительством обеспечивает самую высокую ценность для верующего человека – условия для спасения души. Царская власть сильна верой народа в царя и существовала до тех пор, пока эта вера не зашаталась в самых своих основаниях.
По мнению современного историка А. Н. Боханова9, две великие силы созидали Российское государство – православие и самодержавие. Именно Русская православная церковь и выпестовала идею царской власти как национально-государственный символ веры. Поэтому судьбы Православия и Самодержавия оказались теснейшим образом связанными. Эта связь придавала царской власти устойчивость и силу, но лишь до определенного исторического предела, который обозначился с началом дехристианизации общественной жизни и общественного сознания.
Царь был главой Российского государства, и в нем сосредотачивалась верховная власть. Вместе с тем, христианское учение не может ставить высшей целью человека его служение интересам государства. Душа выше и дороже всего, прежде всего ее спасение, а все прочее само приложится, оно несущественно – таков принцип Святой Руси. Но служение государству не будет грехом лишь тогда, когда сама Россия будет служить Богу. В этом главное. Без христианской веры самодержавие становится бессмысленным, что и произошло в 1917 году, когда активное политическое меньшинство русского народа предпочло христианским идеям сначала идею либеральную, а потом и коммунистическую.
Император и Церковь. В XIX веке отношения царя (императора) и Православной церкви были закреплены как в обрядах и традициях Православной церкви, так и в российском законодательстве.
В богослужебном чине коронования и миропомазания на царство император благословлялся Богом не только как глава государства, но – главным образом – как носитель теократического, церковного служения. В молитвах этого чина говорилось, что император стоит главой не над нацией, не над государством, но над народом Божьим, то есть над Церковью.
Православные самодержцы принимали активное участие в руководстве церковной жизнью. Они издавали постановления об открытии новых епархий, назначали епископов на вакантные церковные кафедры, награждали архиереев высшими церковными наградами, осуществляли внешний контроль за духовенством, в частности, следя за его благочестием. К ним, как к высшим судебным инстанциям, обращались осужденные по церковным делам. Императоры иногда вносили радикальные изменения в существующее церковное устройство, возводя отдельные области в положение автокефальных епархий, то есть независимых от центральной церковной власти, и проч. В области вероучения императоры издавали, помимо соборов, церковные законы и наблюдали за исполнением церковных норм, издавали указы о повсеместном употреблении на богослужениях некоторых православных гимнов.
О церковной власти православного самодержца говорилось не только в богослужебных книгах и обрядах Православной церкви, но также и в законах Российской империи.
Включенный М. М. Сперанским в Свод законов раздел «О вере» декларировал, что «император яко христианский государь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия, и всякого в Церкви Святой благочиния. В сем смысле император именуется главою Церкви»10. В условиях, когда Церковь была лишена патриаршего правления, эта формула по существу ставила светское лицо над всей Церковью и закрепляла за ним роль высшего авторитета в делах православия.
Вышеперечисленные факты позволяют рассматривать царскую власть как институт не только государственный, но и церковный. В результате чего большинством населения империи царствующий монарх воспринимался как религиозный лидер страны.
Изменения в идее отношений Церкви и государства в XIX – начале XX вв. Укрепление государства и одновременное ослабление Церкви – эта тенденция прослеживается на протяжении всего синодального периода. Одновременно растет недовольство Церкви своим подчиненным положением. При обсуждении церковной реформы в начале ХХ века практически все архиереи высказывали пожелания изъять область церковных дел из ведения царской власти и передать управление Церковью исключительно органам высшей духовной власти, неподконтрольным фактически никому, кроме церковных инстанций: Собора, патриарха и Синода. То есть, первоначально епископат РПЦ выступал если не за «отделение», то за некоторое «отдаление» Церкви от государства. Государству надлежало покровительствовать Церкви, но та должна быть автономна.
7
Кортунов С. В. Становление национальной идентичности. М., 2009. С. 74.
8
Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. М., 2007. С. 33—35.
9
Боханов А. Н. Самодержавие: идея царской власти. М., 2002.
10
Свод законов Российской империи 1857 г. Т. 1. Основной государственный закон. С. 42.