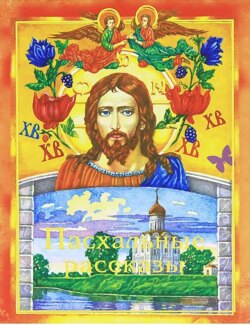Читать книгу Пасхальные рассказы - Группа авторов - Страница 5
И. Островной
В Христову ночь
ОглавлениеI
Батюшка о. Христофор так и говорил: у меня народ за семь недель поста проголодался. Постимся мы не так, как у вас в городе, а по-настоящему. И каждому хочется поскорее вкусить тех око соблазняющих яств, что наготовлены бабами и ароматом коих насыщен воздух не токмо в хатах, но и на деревенской улице. Да к тому же к службе приезжают многие хуторяне, а им после обедни надобно еще семь верст тащиться на свои хутора, чтобы разговеться.
Так говорил о. Христофор городским жителям, когда его упрекали за слишком раннее начало пасхальной службы.
И в самом деле уже в одиннадцать часов с деревенской колокольни раздавался призывный благовест, правда, еще медленный и тихий, с оттенком великопостной грусти. Но все в деревне знали, что это только так себе, лишь ради соблюдения церковного приличия, и что сторож церковный Клим, сидя там, на колокольне, только прикидывается печальным, а в сущности, глаза у него уже горят радостным пасхальным блеском, а руки так и чешутся схватить качаемые ветром веревочки от остальных колоколов и весело пуститься «во все звоны», что он и сделает в самом скором времени.
Нет, что уж там ни говорите, а пост кончился. Отговелись, очистили души от грехов, а тело проморили на квашеной капусте, на галушках да пампушках с постным маслом, сильно сдобренным луком и чесноком, и с этим делом покончено уж на целый год.
И, внимая колокольному призыву, потянулись деревенские жители к церкви. На площади вокруг и в самой ограде еще темно, да и в церкви горят только лампадки да несколько свечей, поставленных благочестивыми прихожанами еще с утра. Но народу уже набралось столько, что нельзя и пробраться.
Площадь вся занята возами. Спозаранку приехали хуторяне, распрягли лошадей, дали им сена, а сами отправились в церковь и заняли там передние места.
Хуторяне народ богатый, земля у них хотя и не своя, а арендная, да много ее, и хозяйства у них большие. Оттого и одеты они не в свитки и не в пеньковые шаровары, подпоясанные красными поясами, а в городские пиджаки, и шеи у них повязаны шелковыми платками, жены же их покрывают головы сеточками со стеклярусом, носят шерстяные кофты с фасонами, а на плечах у них расписные шали.
Так им, понятно, по праву принадлежат передние места в церкви, поближе к клиросу и к алтарю, чтобы по окончании обедни они могли первые поцеловать крест и батюшкину руку и поскорее снарядить свои возы и отправиться на хутора.
Ограда тоже полна народу, но это все деревенская молодежь. Только около самой паперти двумя длинными рядами в обе стороны уселись бабы с узелками, в которых они принесли разное брашно для свечения.
Хотя Клим, сидя на колокольне, еще тянет свой великопостный звон, подолгу выжидая после каждого удара, пока звук его не замрет там, где-то в камышах, по ту сторону ставка, но парни уже настроены по-пасхальному и, желая засвидетельствовать дивчатам свое расположение, отвешивают им, каждый своей избраннице, увесистые и звонкие удары ладонью по спине, и раздается сдержанный, но уже явственно веселый смех.
В церкви дьяк Евтихий тусклым голосом, торопливо и пропуская слова, видимо, соблюдая лишь формальность, дочитывает «Деяния Апостолов». Он постился не меньше других, и ему тоже хочется поскорее разговеться.
И все чувствуют, что эта, как бы покрытая полупрозрачной грусти, остатная служба – что-то временное, какой-то неизбежный великопостный финал, но вот-вот чья-то невидимая рука сорвет пелену – и церковь огласится звуками радости.
Так это и случилось. Батюшка вышел из алтаря в светлых ризах. Забрали хоругви и вышли из церкви. И когда там остались только церковный староста да с ним еще два-три особенно благочестивых прихожанина, все двери – на западе, на севере и на юге – затворились.
Был крестный ход вокруг церкви, а когда потом с радостным пением «Христос воскресе» вошли в церковь, то она уже была залита огнями. Горели паникадила, все лампадки и множество свечей перед иконами и в алтаре.
И народ наполнил церковь, держа в руках горящие свечи, а пел на клиросе уже не дьяк Евтихий, у которого и голоса-то никакого не было, а деревенский хор под управлением учителя Ипостасова.
И лица у всех сияли радостью, когда ясные и звонкие голоса школьников высокими дискантами возгласили весть о том, что узнали жены-мироносицы, придя ко гробу Христа, а басы – тоже деревенские молодцы, раньше учившиеся в школе, но успевшие уже пожениться и завести свои хозяйства, – зычными голосами поддержали их.
Но в то самое время, когда в церкви происходило это духовное ликование, на деревне случилось событие до того невиданное и не похожее на то, чего можно было ожидать в эту ночь, и так противоречившее общему настроению, что в первые минуты никто даже не хотел верить.
В церкви как раз в это время начали петь ирмос. О. Христофор высоким тенором из алтаря возгласил «Воскресения день, просветимся, людие», а хор подхватил, вся церковь, объятая восторгом, как бы понеслась к разверстым небесам.
И вдруг в раскрытые двери из ограды донесся какой-то смешанный гул голосов, сперва сдержанно, потом все громче и громче, как будто в самую церковь стремилась ворваться какая-то громада. Казалось, что там, в ограде, с треском отворяются ворота и калитка, а может быть, даже ломается самая ограда: и слышался топот человеческих ног, а потом с площади лошадиное ржание и неистовый лай собак из деревни.
Молившиеся прихожане вздрогнули и невольно, даже совершая этим грех, начали оглядываться на дверь.
Певчие вдруг остановились посреди песнопения. О. Христофор вышел из алтаря. Лицо его было смущенно и бледно. Непонимающими глазами смотрел он на народ и видел, что у входа уже началось движение.
Деревенские жители, почуяв беду, выходили из церкви и в ограде присоединялись к бегущим, а скоро церковь почти совершенно опустела.
Остались в ней только батюшка, да дьяк Евтихий, да певчие, да некоторые из хуторян, до которых лично не могло касаться то, что происходило на селе.
Тогда и о. Христофор прервал утреню.
II
А случилась, в сущности, довольно обычная деревенская беда, но только в эту ночь она всем казалась изумительной и даже невероятной.
В Пасхальную ночь, когда благость Господня разлита по всей земле и ангелы, глядящие с неба, радостно улыбаются, приветствуя ликующих людей, не может на земле произойти несчастье. В эту ночь лукавый враг рода человеческого, неусыпно искушающий его на злые дела, уходит в преисподнюю, и тот, кому он успел уже внушить злодейство, откладывает его на другие дни. В эту ночь люди безгрешны, и небо не карает их за прежние грехи.
И тем не менее это случилось. Парни и дивчата в церковной ограде беззаботно предавались увлечению игрой «навбытки», вынимая из-за пазух крашенки и состязаясь в крепости их, когда в отдаленном конце села, как видно, около самого оврага, за которым начинались уже пахотные поля, над двумя рядами хат, тянувшихся по обе стороны широкой улицы, зигзагом мелькнуло что-то вроде молнии.
Кто-то из парней заметил это страшное явление и сказал другим. Подняли головы и стали смотреть. Опять выскочило из-за хат что-то яркое и точно лизнуло воздух своим длинным языком, лизнуло и исчезло.
Да неужто же молния? А грома не слышно. Да и откуда оно могло взяться, когда над головой висит чистая глубокая синева неба, усеянная яркими звездами?
Уж не вздумал ли кто зажечь там смоляные бочки? Так нет же, две бочки, приготовленные еще со вчерашнего вечера, стоят на берегу ставка, тут же, неподалеку от церкви, и целая орава охочих парней и мальчуганов и сейчас возится около них, чтобы зажечь их ради торжественной ночи.
Но огненные языки стали часто вылетать из-за хат и лизать воздух. Один за другим, и небо в той стороне осветилось ярким заревом, как будто кто-то и на небе зажег, да не две, а целую тысячу смоляных бочек.
Эге, да это горит чья-то хата. Теперь уж это стало для всех очевидно. И, должно быть, здорово горит, потому что за целую версту видно, как отдельные огненные языки соединялись в одно огромное полымя, которое подымалось все выше и выше и силилось достать до неба.
Вот тут-то и поднялся шум, раздались крики, бабий визг и беготня. Молодежь повалила вон из ограды, ломали ворота, как и забор, раздвигали по пути возы на площади, взбудоражили коней, привязанных к возам и мирно жевавших сено, и подняли лай деревенские собаки.
Все, что только было живого в селе, двинулось туда, на край его, где, спускаясь к ставку, шел глубокий овраг, и все бежали по деревенской улице.
Дома были наглухо закрыты, ни в одном окошке не светился огонь, потому что в эту ночь ни одна душа – ни молодая, ни старая – не сидела дома, а все были в церкви или около нее. Даже грудных ребят бабы забрали с собой и в случае надобности кормили тут же, присев на ступеньках паперти.
И никто не знал, что именно горит. Думали, не загорелась ли мельница местного богача Антона Чумака, стоявшая по ту сторону оврага и моловшая муку на всю деревню. И думавшие бежали с веселым духом, потому что не любили на селе Антона Чумака, пользовавшегося всякой бедой, чтобы выжать из человека лишнюю копейку, должно быть, и богатого.
И говорили даже между собой, что если горит в такую ночь мельница, то уж это, значит, Господь наказал Чумакова за особые грехи его. Очевидно, и там, на небе, стало невмоготу терпеть его злодейство.
Но когда прибежали на край села, то увидели, что мельница Антона Чумака стоит себе целехонькая по ту сторону оврага, и вечно вертящиеся крылья ее теперь отдыхают по случаю великого праздника. И смотрит она со своего возвышенного места, вся залитая ярко-багровым светом, словно принарядившаяся по случаю праздника, и как будто усмехается: «Вот, мол, думали, что я горю, а меня и огонь не берет, и стою я себе на пригорке да на вашу человеческую беду посматриваю».
А горела – это уже было для всех очевидно – хата Мирона Очкура, самого бедного человека во всем селе. И когда прибежавшие сельчане увидели это, то всех их охватило чувство ужаса и в то же время как бы некоего ропота по отношению к небу, которое теперь было все залито ярко огненным сиянием, и не видно было на нем ни одной звездочки.
Как же так? В такую ночь и на самого бедного человека этакая беда? И откуда? В доме, как видно, не оставалось ни души, да и все видели Мирона в церкви и жинку его Олену и двух ребят – шести и восьми лет, и даже маленького, который еще не ходит, она на руках держала. Так и видели их: двое старших держатся за ее юбку, а третьего на руках несет свиткой.
И старуху, Миронову мать, которая на его попечении живет, тоже видели в церкви. Значит, никого в доме не было.
Да и теперь это видно: горит себе хата, со всех сторон охваченная пламенем, с самых низов стены пылают, и крыша, и камышевая изгородь, и уже загорелся сарай – правда, пустой, потому что Мирон еще зимой продал на харчи да подати последнюю корову и пару свиней. И никто не бегает посреди огня, как безумный, не кричит, не воздевает к небу руки, не жалуется и не проклинает – потому что никого нет. Может, Мирон и его жинка теперь молятся и не подозревают, какая над ними стряслась беда.
Ну, народ, разумеется, бросился помогать. С криком да с гиканьем каждый старался что-нибудь сделать от себя. Привезли пожарную бочку, которая всегда стояла на волостном дворе, и начали качать, но ничего не выходило. Никто не умел и качать-то как следует. Может, совсем и не в ту сторону, а может, и бочка давно уже забыла, как надо действовать. Но, одним словом, вода из рукава не полилась.
Тогда стали таскать воду ведрами, как таски-вали встарь, и беспомощно поливали горевшие стены. Но от этого огонь как будто получал только новую пищу и не только не сдавался, а с новой, еще пущей силой разгорался.
Прибыл наконец и Мирон, высокий сухощавый мужик с длинной, выцветшей от солнечных лучей бородой, без сапог и без шапки. Прибыл, взглянул на свою убогую хату, которая вдруг сделалась такой красивой, упал на колени и завыл нечеловеческим голосом.
Тут же рядом голосила, как по покойнике, Олена, держа младшего ребенка на руках, а другие двое детишек уцепились за ее платье и беспомощно, испуганными большими глазами смотрели на все происходящее.
– Господи Ты Боже наш!.. Ты же милостив, Ты же справедлив!.. За что же покарал?.. В такую-то ночь!.. В Твою святую ночь!.. Господи, Царю Небесный!..
Так восклицал обезумевший Мирон, простирая руки к небу.
Но в это время все невольно обернулись назад. Из освещенной ярким заревом полосы даль деревенской улицы казалась беспросветно темной, как будто мир замыкался этим огненным кругом, а все, что было дальше, потерялось во тьме.
И из глубины той тьмы явственно доносится стройное пение пасхального тропаря. Высокие детские голоса рассекали ночной воздух, а им вторили бодрые, крепкие, дышавшие какой-то непоколебимой уверенностью басы и тенора.
И над всеми господствовал высокий и как бы согретый неким внутренним пламенем голос, такой знакомый каждому сельчанину, что он узнал бы его среди тысячи голосов.
«Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» – слышалось из невидимого пространства, и казалось, что там, в далекой, недостижимой вышине раскрылось небо, и до людского слуха дошло пение светлого сонма ангелов.
III
Но пели не ангелы. Через некоторое время на слабо освещенном пространстве стали вырисовываться человеческие фигуры. Их было много, но сперва нельзя было различить их. Но вот они вступили в полосу яркого света, и шествие их походило на волшебство.
Впереди шел о. Христофор в праздничных церковных ризах, держа высоко перед собой крест. Он весь казался красным и каким-то прозрачным от освещавшего его зарева.
За ним торопливой походкой, но стройно двигались певчие во главе с учителем Ипостасовым и дьяк Евтихий, а потом шла порядочная толпа, состоявшая из хуторян и сельчан – стариков и старух, не обладавших такими крепкими ногами, чтобы бежать вместе с другими. И все громче и яснее слышалось пение хора и горячий звук высокого голоса о. Христофора.
Пришли они к самой хате Мирона и в стройном порядке остановились. О. Христофор осенил крестом горящий дом вместе с подымавшимся из него пламенем, а потом и всех живых людей, густой толпой запрудивших улицу.
Пение окончилось, и в тот же миг водворилась глубокая тишина; только треск падавших с постройки бревен да шипение кипевшей в них смолы каким-то таинственным образом нарушало эту тишину.
– Не трудитесь тушить! – громко, отчетливо, так что слышно было каждой паре ушей, сказал о. Христофор. – Безполезно, ибо огонь уже пожрал все строение! И да утешатся плачущие. Встань, Мирон, встань и ты, Елена, и не токмо не ропщи на Господа, а возблагодари Его!..
Мирон, не подымаясь с колен, а только повернувшись к нему, протянул руки.
– Батюшка, отец Христофор! Да как же не роптать, когда пропало последнее наше прибежище! За что, Господи? За что?
О. Христофор осенил его крестом:
– А я говорю тебе, Мирон, не ропщи… Не должны мы допускать, что Господь в такую святую ночь не пощадил создание Свое – человека. Верь мне, что в сем кажущемся несчастии великая радость сокрыта. Верь, Мирон, вместе со мною… Ну, кто помоложе, пусть останется и оберегает соседний дом от пламени, – прибавил о. Христофор уже простым тоном житейского распоряжения, – а остальные пойдемте обратно в церковь и окончим божественную службу.
И запел, а певчие подхватили:
– Воскресение Христово видевшие, поклонимся…
И, еще раз осенив крестом пожарище и покорно вставших с колен Мирона и Олену с детьми, о. Христофор с пением повернул обратно и пошел по направлению к церкви, и вся толпа, за исключением немногих оставшихся, двинулась за ним.
И Бог знает, как уложились в душе прихожан слова о. Христофора, но как-то все они вдруг уверовали вместе с ним, что пожар, случившийся в такую ночь и истребивший все достояние Мирона, принесет Мирону счастье.
И сами собой раскрылись уста и запели все вместе с певчими и о. Христофором, кто как мог, и было это пение нестройно, но пламенно и величественно.
Так крестным ходом и дошли до церковной ограды, вошли в нее, а потом и в церковь, которая наполнилась народом вся до последнего уголка.
О. Христофор вошел в алтарь и произнес возглас, на котором была прервана утреня, хор запел канон, и служба продолжалась с таким благолепием, как будто ничего особенного не случилось и она не прерывалась.
Только голос о. Христофора звучал как-то вдохновенно, и, подчиняясь влиянию этого голоса, и певчие пели восторженно, и прихожане с глубоким чувством осеняли себя крестом.
И вот кончилась утреня. Народ, точно выкованной стеной, весь придвинулся поближе к алтарю. Ждали, что о. Христофор по обыкновению выйдет из алтаря и будет всем давать целование креста и христосоваться со всей своей паствой. Так уже водилось с незапамятных времен.
На маленьком столике ставился медный церковный таз, и каждый, христосуясь с о. Христофором, клал в этот таз крашенку.
Так было и на этот раз. Дьяк Евтихий вынес столик и поставил его на возвышенном месте около передних рядов молящихся, а на столике стоял таз. Вышел и о. Христофор из алтаря, и в правой руке его был крест.
Но не подошел он к столику и не начал благословлять крестом и христосоваться. Он остался поодаль. Лицо его было сосредоточенно и серьезно, и глаза горели каким-то огненным блеском, и он заговорил.
Прихожане всегда любили слушать, когда о. Христофор говорил в церкви. Случалось им слушать других проповедников в городе и в других селениях. Но их слушали они из уважения, мало понимая то, что они говорили.
Совсем другое были для них речи о. Христофора. Он говорил с ними попросту, так, как будто это была не проповедь, а самый обыкновенный разговор, только не с одним человеком, а с целым приходом. Не часто приходилось слушать его прихожанам. О. Христофор хотел, чтобы ценили его слово, и потому говорил в церкви только тогда, когда был особый для того повод. Случится что важное на селе, и все ходят с понуренными головами, а другие толкуют вкривь и вкось, и столько бывает мнений, сколько хат, а иной раз и в хате муж с женой разойдутся во взглядах. А в воскресенье все придут в церковь и ждут, что скажет о. Христофор. А уж он подумал за всех и так скажет, что всем станет ясно, и тогда все начинают думать одинаково.
Таков был о. Христофор. За это его и уважали, именно за то, что он умел думать за всех и толково думал, так что уж можно было на его думы положиться.
Заговорил и теперь о. Христофор:
– Вот, – сказал он, – православные люди, небывалое событие произошло на нашем селе: в Святую ночь Христова Воскресения, когда на земле всякая тварь радуется и славит Бога, от неведомого источника загорелась и, должно быть, теперь сгорела до основания хата Мирона Очкура. А кто же такой Мирон Очкур? Разве мы его не знаем? Разве не на наших глазах он был когда-то хорошим хозяином, а посетило его несчастье – пали от болезни две пары волов и три коровы, да в тот же год посетил его неурожай, и оскудело его хозяйство, и стал он беднейший между нами? А может быть, Мирон Очкур великий грешник? Не чтит Господа, не соблюдает Его заповедей, не милосерд к ближним, гневлив? Уж если Господь наслал на него такую кару в эту великую ночь, то, должно быть, он самый последний грешник из всех чад Божиих. Но мы же знаем Мирона Очкура, вот он стоит среди нас. Не святой, конечно, но и не грешнее каждого из нас. Потому я говорю: справедливый Господь не мог в нынешнюю ночь послать ему кару. А значит, то была не кара, а знамение, свидетельство его благоволения. Огнем захотел Господь очистить его от бедности. Поднять его от горя к радости, восстановить его захиревшее хозяйство и – слушайте же меня, чада мои – нас всех избрал Он орудием Своей воли. Вот сгорела хата Мирона.
Возлюбим же мы Мирона тою братской любовью, которая в нынешний день соединяет все человечество, и пусть каждый положит в сей сосуд из своего достатка, сколько ему по силам.
Богатый больше, а бедный – хотя бы и самую малость! А потом, земляки, как отойдут праздничные дни, соберемся и общими силами на месте сгоревшей хаты Мирона построим для него и для его семьи новую, и будет у Мирона и жилье и достаток, и восстановится его хозяйство, и возблагодарит он за это Бога. Вот я, старший среди вас и пастырь ваш – Бог не обидел меня достатком – кладу по мере своих средств и, кроме того, дарю Мирону корову и теленка из своего малого стада… Христос воскресе, православные!..
IV
И начало осуществляться то, что вдохновенно предсказал о. Христофор. Трогательное волнение охватило всех присутствовавших в церкви. Все полезли в карманы, кто за голенище сапога, а кто за пазуху. Бабы развязывали узелки на углах своих платков и доставали оттуда медные монеты, припрятанные на покупку пряников для детей и семечек для собственного развлечения. Подходили поочередно, неторопливо к о. Христофору, целовали крест и христосовались с ним, а потом нагибались в ту сторону, где стоял столик, и каждый клал в церковный таз свою лепту.
Звенели медяки, сдержанно позвякивала серебряная монета, но случалось, что какой-нибудь богатый хуторянин раскошеливался и опускал в таз многозначительную цветную бумажку, да еще потом обращался к батюшке и говорил:
– А я ему еще кабанца молодого дарю, пускай придет за ним на хутор.
У другого нашелся молодой теленок, у третьего – двухгодовалый жеребенок.
Слушал все это о. Христофор, кивал головой и улыбался и всем отвечал: «Хорошо, хорошо, Охрим, либо Степан, спасибо тебе, уж пришлем, не забудем».
А Мирон стоял неподалеку на своем месте и слушал, растерянный и потрясенный. Что-то такое совершается вокруг него. Теперь уж, должно быть, от хаты его остался один пепел, а тут каким-то чудом вырастает новое его благосостояние. Все эти кабанцы, телята, жеребята, также и все то, что в виде заметной уже кучи возвышается в церковном тазу, – все это посылает Бог не кому другому, как ему. И казалось Мирону, что это не жизнь, а приснился ему какой-то необъяснимый и чудесный сон.
Когда кончилось целование креста и христосование батюшки, о. Христофор велел церковному старосте вместе с другими прихожанами подсчитать собранное, а сам вернулся в алтарь и сейчас же, без перерыва начал служить обедню.
Быстро и как-то радостно, почти веселым голосом читал он молитвы и ектении, сознательно торопясь, чтобы отпустить поскорее прихожан, которых так неожиданно задержал пожар, а после обедни вышел к народу и объявил, что собрано Мироновой семье что-то больше трех сотен.
– И вот теперь никто не должен сомневаться, что не кару Бог послал Мирону, а свидетельство Своего благоволения. Помните же, земляки, на четвертый день праздника соберемся и будем строить Мироновой семье хату.
Когда же народ стал расходиться, о. Христофор подозвал Мирона и сказал ему:
– Возьми свою жену Елену и ребят и иди ко мне в дом – будем вместе разговляться.
Мирон хотел было возразить, что и так, мол, благодарен батюшке и не смеет утруждать его, а разговеется где-нибудь у родни, но о. Христофор уже повернулся и ушел в алтарь, и пришлось Мирону и Олене идти к нему. Не мог он не исполнить желания о. Христофора.
А в доме о. Христофора в это время уже были зажжены яркие огни. В большой комнате был накрыт пасхальный стол. Матушка выстояла в церкви только утреню, а от обедни должна была уйти, так как нужно было все приготовить. А это было не так просто, как может показаться. У о. Христофора было довольно большое хозяйство. Он и землю засевал, и коров держал, и птичню, и при всех этих статьях, кроме работников и работниц по дому, были особые люди.
Отдельная кухня стояла во дворе, и там варилась пища для рабочих. Но в эту ночь в отдельной кухне вовсе не разводился огонь.
О. Христофор, в обычное время не чуждый мирской суеты, – он не только был пастырем своего духовного стада, но и наживал понемногу добро – в этот день хотел быть последовательным и проводить в жизнь те слова, которые он громогласно произносил в церкви, и в доме его в пасхальную ночь не делалось разницы между «чадами и домочадцами». За одним столом, накрытым в большой комнате его квартиры, украшенным зеленью и цветами, садился он сам и матушка, и все служащие при его хозяйстве.
Кучер Антип ради праздника смазывал свои сапоги чистым дегтем, птичница Матрена повязывала свою голову новым очипком, а доильщица коров, которых у о. Христофора было малое стадо с дюжину голов, никак не могла отмыться от навозного запаха, который впитывала в себя ежедневно при исполнении своих обязанностей.
И матушка, которая не особенно покровительствовала этому христианскому обычаю, а только делала уступку о. Христофору, должна была выносить все эти разнообразные ароматы у себя за столом.
Но она выносила их мужественно. Ведь это был всего только один день в году, когда о. Христофор настаивал, чтобы было по его, остальные же триста шестьдесят четыре дня все в доме делалось, как хотела матушка.
Поэтому, когда о. Христофор прислал из церкви сторожа Клима сказать ей, что за столом еще прибавится семейство Мирона Очкура, она приняла эту весть со стоическим терпением и только велела раздвинуть стол и вставить в него еще одну доску.
И вот вернулся из церкви о. Христофор. Все служащие ждали его прихода в сенях, так как при матушке не смели войти в комнаты. И разом в доме как будто прибавилось света. О. Христофор со всеми перехристосовался и пригласил всех за стол.
– А где же Мирон и Елена? – спросил он, так как не видел погорельцев в числе присутствующих.
Но их никто не видел, и неизвестно было их местопребывание. Тогда отправились во двор и нашли их тихо и смиренно сидящими на завалинке.
Робко ступая и оглядываясь, вошли они в большую, ярко освещенную комнату. Лица у них были какие-то смутные, точно они испытывали не действительность, а какую-то сказку. Мирону казалось, что сон все еще продолжается. Как-то слишком уж много заставила его судьба пережить в одну эту ночь.
И, когда все уселись за стол, большая комната в церковном доме представляла необыкновенное зрелище. Вокруг огромного стола, уставленного всевозможными пасхальными яствами, сидели люди различных положений, в разнообразных одеждах.
И о. Христофор от души, а матушка, хотя и скрепя сердце, но все же с видом искренней любезности угощали их, предлагали им яства и пития. О. Христофор собственноручно наливал водку в рюмки, чокался со своими работниками и пил вместе с ними.
Пил и Мирон, сам еще не понимая вполне, пьет ли он чару, поднесенную ему самим о. Христофором, с постигшего его горя, или по случаю предстоящей радости.
После розговен о. Христофор, желая довести до конца начатое дело, отвел Мирону и его семье небольшое помещение, где в самом скором времени должны были высиживать цыплят его куры. Теперь оно было еще свободно, и Мирон вместе с Оленой и тремя ребятами временно поселился в нем.
V
В первые три дня праздника о. Христофор был занят обходом и объездом своих прихожан. В самом селе ему вместе с дьячком Евтихием пришлось ходить два дня. Село было большое, и каждый прихожанин желал видеть у себя духовных лиц, и в один день обойти его не было возможности.
Посещение хат собственно было краткое. О. Христофор в эпитрахили и с крестом в руке входил в дом, а вслед за ним и Евтихий. Так как обход происходил поочередно, из хаты в хату, то хозяева ждали и были все в сборе. Пели пасхальный тропарь, о. Христофор давал всем благословение и поздравлял с праздником, и этим духовная часть дела кончалась.
После этого хозяйка уходила в кладовую, либо амбар, либо погреб и выносила оттуда заранее заготовленное то, что было в ее хозяйстве лучшим, что не стыдно было поднести духовенству. Кусок соленого сала, колбасы либо что-нибудь хлебное. За воротами стоял воз, запряженный парой батюшкиных коней, которыми управлял сторож Клим. В этот воз и складывали дары.
Но в иных домах, где были особенное тороватые хозяева, приходилось и посидеть, а иногда и засидеться. Батюшку и Евтихия усаживали за стол и заставляли «сделать честь». Кроме чести, надо же было и питаться, так как в течение целого дня домой о. Христофор не заходил.
Так было в первый и второй день. Набиралась изрядная гора всякого рода приношений, которые делила между о. Христофором и дьяком Евтихием уже сама матушка. Дележка была, однако, неравномерная, а по достоинству, благодаря чему дьяк Евтихий получал лишь четвертую часть и был доволен своей участью, ибо он не более как дьячок. Разумеется, кое-что тут перепадало и сторожу Климу.
К вечеру второго дня о. Христофор очень уставал. После двухдневной ходьбы у него болели ноги и ломило спину. Но это не мешало ему на третий день рано утром отправляться на хутора. Хутора входили в состав прихода, и хуторяне считали приезд духовенства особенным, исключительным праздником.
Тут о. Христофору не приходилось ходить по хатам, так как они были разбросаны на значительном пространстве, отделенные одна от другой обширными огородами и картофельными полями.
Избиралась какая-нибудь определенная хата, туда собирались все хуторяне, здесь служилось молебствие, а затем выносили во двор столы, накрывали белыми скатертями с вышитыми краями, и происходило пиршество. И за этим пиршеством на долю духовных лиц обычно выпадало гораздо больше даров, чем за целые два дня хождения по деревенским хатам.
Хуторяне были народ тороватый и любили одарить свое духовенство. И расщедривались они не каким-нибудь куском сала либо паляницы – тут сыпались в духовную казну целые мешки жита, пшеницы, проса, чего у кого было больше, и все это собиралось на несколько телег, и на другой день сами хуторяне привозили в церковный дом.
Но на этот раз у о. Христофора была еще и другая забота. Он отлично помнил все торжественные обещания, данные хуторянами в церкви для семьи Мирона, и теперь напомнил о них хуторянам. И каждый из хуторян подтвердил.
Пиршество затянулось до солнечного заката, и о. Христофор с дьячком Евтихием вернулись домой, когда уже спускались сумерки.
Всегда трезвый и осторожный в выборе пищи и питья, о. Христофор для этого дня, один раз в году, делал некоторое исключение. Не было никакой возможности среди хуторян соблюсти умеренность, так они умели упрашивать и так были неотступны в своих просьбах. И так как от большей или меньшей уступчивости прямо зависело количество даров, то о. Христофору приходилось отступаться от своих принципов. Поэтому он вернулся домой с несколько затуманенной головой и, как человек непривычный, сейчас же захотел спать, лег в постель и в эту длинную ночь, начавшуюся с семи часов вечера, выспался и отдохнул за все три дня.
А на другой день еще не взошло солнце, когда о. Христофор поднялся и отправился в волость. По дороге он останавливался около хат и своей толстой палкой стучал в окна сельских обывателей, чтоб те, которые слишком заспались, проснулись и поспешили собраться во дворе волости. И скоро там сошлись все хозяева.
– Ну, что же, – сказал им о. Христофор, – приступим. Время у вас свободное, все равно праздничную неделю пропьянствовали бы.
И хозяева подтвердили. А, разумеется, пропьянствовали бы, уж о. Христофор знает их лучше, чем они сами. Конечно, земляки порядочно уже поостыли от того воодушевления, которое охватило их тогда в церкви, в пасхальную ночь, после проповеди о. Христофора.
Но никому и в голову не пришло отказаться. Это было бы малодушием.
И вот вся деревня собралась на погорелом месте. О. Христофор облачился в светлые ризы и отслужил молебствие перед началом работ, а после этого начались и самые работы.
Это было нечто беспримерное. Обыкновенно с постройкой хаты мужик с бабой возятся уже самое меньшее два месяца. А произошло настоящее волшебство. Как-то мигом убрали с погорелого места все остатки от пожара, из всех дворов натаскали и дерева, и камыша, и глины, отыскались и доморощенные мастера, и каждый занялся тем, что знал лучше других. Стучали топоры, шипели пилы, долбило дыры долото. Бабы вязали пучки камыша и месили глину.
День, другой и третий и еще несколько дней – и, точно по щучьему веленью, выросла постройка, и на недавно опустелом месте стояла стройная новая хата, и камышовая крыша красовалась на ней с ровно остриженными краями и с красивым гребнем наверху. Оставалось только выждать время, пока она высохнет, чтобы можно было побелить ее глиной. Никогда и не мечтал Мирон о такой хате.
VI
Сельчане и сами от себя не ожидали такого усердия. Это походило на какое-то состязание, каждый старался превзойти другого, особенно молодежь. Но душою всего дела был, конечно, о. Христофор. Никогда он не говорил пустых слов, славился этим, да и теперь не сказал. «Построим Мироновой семье хату» – это были его слова тогда в церкви, во время пасхальной заутрени, и он строил вместе с другими.
Он вставал раньше всех. Еще только едва-едва розовел восток и одна за другой начинали гаснуть звезды, как он уже был на ногах, надевал рясу, брал в руки палку и отправлялся по деревенской улице. К каждой хате подходил он и, если видел, что там еще спят, осторожно, но настойчиво стучал палкой в окно:
– Эй, эй, Вавило! Экий ты лентяй! Подымайся, а то солнце взойдет, и стыдно тебе будет перед ним. Вставай-ка и идем на постройку!
И ждал, пока Вавила, вскочив с постели, торопливо напяливал на себя одежду и еще с заспанным лицом выходил на улицу.
– Уж так скоро, батюшка, что даже и Богу помолиться не успел, – говорил, скрывая досаду, ленивый Вавила.
– Ничего, я за тебя помолюсь. Притом же работа для ближнего та же молитва, – отвечал о. Христофор и шел уже вместе с Вавилой дальше, останавливался у другой хаты и таким же образом подымал с постели какого-нибудь Михайлу или Илью.
И так проходил он всю деревенскую улицу, переходя с одной стороны, на другую и пробуждая спящих и ни одного не оставляя в хате. Он знал, что доброму хозяину ничего не стоит перевернуться на другой бок и опять заснуть. Каждого он вытаскивал из хаты и брал с собой.
И когда приходили на край села, где строилась хата для Мирона, это уже была порядочная компания во главе с о. Христофором.
И на постройке он проводил целые дни, отлучаясь только для выполнения треб да для принятия пищи. И все время пристально следил за работой, торопил и всячески поощрял.
– Ведь я знаю, – говорил он, – скоро начнутся полевые работы, и тогда вас сюда и калачом не заманишь.
Когда же не хватало каких-нибудь материалов для постройки, он просто делал набег на двор какого-нибудь богатого мужика.
– Эге, Степан, да у тебя сколько досок-то наготовлено, а нам и всего-то нужно с полдесятка: а ну-ка, свези их на постройку. А Бог, гляди, и простит тебе за это какой-нибудь грех.
И Степан почесывал затылок, но вез полдесятка досок, потому что никак не хотел огорчить батюшку. А то не свезешь, ведь пристыдит о. Христофор, при всех так и отпалит что-нибудь такое, отчего не будешь знать, куда и провалиться.
И была-таки одна такая история – с Антоном Чумаком, с тем самым, чья мельница стояла по ту сторону оврага, как раз против нового строения. Когда уже стены довели до потолка, и нужно было настилать потолок, как раз и оказалось, что бревна для настилки, пожертвованные кем-то из прихожан, коротки. Ничего нельзя было с ними поделать. Подумал о. Христофор, покачал головой и сам себя пожурил за то, что не рассчитал. Строили ведь по-домашнему, на глаз, как строятся все хаты в деревне.
Но, случайно подняв голову, взглянул отец Христофор на мельницу Антона Чумака. А там, около мельницы, как раз и лежала целая куча сложенных одно на другое бревен, и, насколько можно было судить издали, все подходящие.
– Да это же прямо Божье указание, – сказал отец Христофор мужикам. – Бревен нам не хватает, а бревна как раз тут лежат. Пойдем к Чумаку, да только миром.
Сомнительно покачали головами земляки: не даст Чумак, не такой человек. Он и то до сих пор ни одной камышинки на постройку не пожертвовал.
– А не даст – ему же и хуже будет! – И, прихватив мужиков, о. Христофор отправился через овраг к мельнице.
А Антон Чумак как раз в это время вместе с своим работником передвигали мельницу на оси, потому что повернулся ветер, и надо было крылья поставить как раз против ветра. При виде батюшки Антон прервал свою работу и почтительно снял шапку.
– Христос воскресе, – сказал о. Христофор.
Чумак ответил как полагается.
– Помогай Бог! – прибавил о. Христофор.
Чумак и на это сказал, как надо: спасибо, мол.
– А мы о твоей душе подумали, Антон. Вот ты до сих пор все никак придумать не можешь, что бы такое пожертвовать на нашу мирскую постройку, а мы нашли.
– Что же, отец Христофор… – мрачно насупив брови, откликнулся Антон, уже, очевидно, почуяв грозящую ему беду. – Постройка, она и без меня выросла, а я, может, когда-нибудь в другой раз… Да и нечем… У меня мука… Кроме муки, ничего и нет…
– Как же нет? Нам нужно потолки настилать, а у тебя как раз целая куча бревен лежит… И не много надо – десятка два бревен…
– Бревна самому нужны, отец Христофор. На то я покупал, что нужны, – упирался Антон.
– Так не дашь?
– Да уж как-нибудь обойдитесь, отец Христофор. А бревна мне самому нужны.
– Ну, ладно. Вот никогда не думал строить мельницу, а теперь построю. На зло тебе построю и отобью у тебя полдеревни. А не то еще лучше: соберемся да миром построим. И будет мирская мельница. Ведь выстроили хату.
Антон сделал вид, что понял это как шутку, но в душе он всегда именно этого больше всего на свете боялся – чтобы кто-нибудь не вздумал построить мельницу. Он ничего не сказал, но, когда о. Христофор с мужиками ушли, работник его привел к мельнице лошадь с телегой, снял с телеги ящик, нагрузил вместе с Антоном бревнами и привез их на постройку.
Прошло недели две. Хата Миронова высохла, ее побелили, и стояла она на краю села такая стройная и нарядная. О. Христофор назначил день для освящения ее и известил о том хуторян. И хуторяне явились со своими дарами, о которых дали обет в церкви, и разом наполнился двор всяким добром хозяйственным. Было торжественное освящение, после которого Мирон с семейством поселился в хате и начал в ней новую жизнь.
И хорошо пошли дела Мирона. Собранные в церкви триста рублей сильно помогли ему для начала. Стал он наряду с лучшими хозяевами прихода. Он посещал церковь, как все. Но никогда не видели его так пламенно молящимся, как в пасхальную ночь во время утрени.