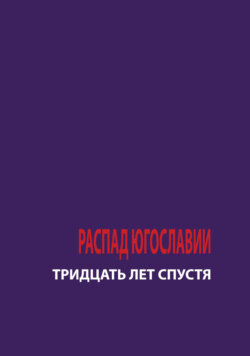Читать книгу Распад Югославии. 30 лет спустя - Группа авторов - Страница 4
Раздел I
Что такое распад СФРЮ
Глава 1
Взгляд политолога: распад Югославии и новые явления в мировой политике[19]
ОглавлениеРаспад СФРЮ не только привел к значительным изменениям на политической карте Юго-Восточной Европы, но и вызвал к жизни процессы на Западных Балканах, последствия которых ощущаются и поныне. Дезинтеграция этой крупной европейской страны способствовала возникновению и новых явлений в мировой политике. Анализу некоторых из них и посвящена данная статья.
Распад Югославии стал одним из ярчайших проявлений крушения Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и созданного ею биполярного миропорядка, в основе которого находилось соперничество двух сверхдержав – США и Советского Союза, возглавлявших две конкурировавшие друг с другом общественные системы – капиталистическую и социалистическую. После переломного для судеб значительной части человечества 1989 года, ознаменовавшегося официальным завершением холодной войны, отказом Советского Союза от присутствия во многих регионах мира и крахом социализма в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)[20], биполярность как основа миропорядка начала стремительно ослабевать. СССР вплоть до своего распада в 1991 г. все еще продолжал оставаться одним из центров силы в мире со своими интересами и ви́дением международной ситуации, однако уже не играл и не хотел играть роль противника США. Общественно-политический и экономический порядок в оставшихся после краха социализма в двух социалистических странах Европы – СССР и СФРЮ – в этих условиях эволюционировал в направлении иных общественных моделей, основанных на рыночной экономике и политическом плюрализме.
При этом правила и политико-юридические нормы, на базе которых существовал биполярный миропорядок, продолжали действовать, ими по-прежнему в практической деятельности руководствовались правительства разных стран. Эти правила складывались постепенно на протяжении десятилетий и в конечном итоге были закреплены в важнейших международных документах только в 1960– 1970-е годы. С формальной точки зрения, по крайней мере на первый взгляд, они выглядели противоречивыми. Так, с одной стороны, мировое сообщество признало неотъемлемое право народов на самоопределение, которое было закреплено в Уставе ООН (ст. 1, п. 2), принятом в 1945 г. В принятой 14 декабря 1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам» не только отмечалось, что «все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие», но и подчеркивалось, что «недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность… никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости»[21]. Но, с другой стороны, в другом важнейшем международном документе – Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном главами государств и правительств 33 европейских стран, а также США и Канады, устанавливался принцип нерушимости границ, сложившихся по итогам Второй мировой войны. Государства-подписанты брали на себя обязательства уважать территориальную целостность друг друга, воздерживаться от любых направленных против нее действий, от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства[22]. Для мирового порядка значимость правил, установленных Заключительным актом, определялась тем, что они относились к регулированию международных отношений в Европе, на континенте, где противостояние между двумя сверхдержавами и конкурирующими общественными системами приобрело наиболее острый и напряженный в военно-политическом плане характер.
Однако противоречие между приведенными выше подходами было только кажущимся. На самом деле они относились к регулированию совершенно разных процессов и в разных регионах мира. Право народов на самоопределение было адресовано народам стран, освободившихся и освобождавшихся от колониальной зависимости. И в этом плане позиции обеих сверхдержав, заинтересованных в ликвидации прежних колониальных империй европейских государств, были очень близки. Наглядным примером этого являлись позиции, занятые правительствами Советского Союза и США в отношении англо-франко-израильской агрессии против Египта в 1956 г. Во многом благодаря совместным усилиям сверхдержав эта война была прекращена. Но в дальнейшем именно борьба за влияние в странах третьего мира стала главным геополитическим полем соперничества между СССР и США в годы холодной войны.
В Европе же, где риск возникновения новой мировой войны, способной уничтожить все человечество, был очень велик, сверхдержавы твердо придерживались иного принципа – сохранения status quo, возникшего по итогам Второй мировой войны. Так, США и их союзники по НАТО не оказали никакой помощи антикоммунистическим силам в Венгрии и Чехословакии соответственно в ходе венгерского антисталинистского восстания 1956 г. и Пражской весны 1968 г. В свою очередь Советский Союз в 1974–1975 гг. не оказал помощь группировке прокоммунистически настроенных португальских военных, овладевшей в тот период основными рычагами власти в стране и намеревавшейся осуществить социалистическую революцию, вывести Португалию из НАТО и присоединиться к Организации Варшавского договора.
Таким образом, двойственность подходов, предполагавшая право самоопределения для народов третьего мира и нерушимость границ и территориальную целостность в отношениях между первым и вторым миром, была имманентно присуща Ялтинско-Потсдамской системе и возникшему на ее основе биполярному миропорядку.
Распад Югославии, воспринимавшийся на Западе и в Советском Союзе, а затем и в России, именно в этой системе координат, поставил мировое сообщество перед совершенно новыми задачами и оказал огромное влияние на мировую политику последующих десятилетий.
Югославия занимала особое место в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений. Страна не входила ни в Совет экономической взаимопомощи, ни в Варшавский договор, проводила независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику и потому рассматривалась Соединенными Штатами как противовес влиянию Советского Союза. В то же время, несмотря на тесные экономические связи с Западом, СФРЮ не отказывалась от социалистического строя и монопольной власти коммунистической партии. В СССР в рамках господствовавших тогда идеологических воззрений СФРЮ наряду с КНР, КНДР и Албанией считали частью мировой социалистической системы, но не включали в состав мирового социалистического содружества, куда входили только находившиеся в орбите советского влияния страны СЭВ, Варшавского договора, а также Куба и Вьетнам. Югославия являлась одной из стран-основательниц Движения неприсоединения, объединявшего в основном развивающиеся и освободившиеся от колониальной зависимости страны, которое также являлось полем борьбы между сверхдержавами за мировое доминирование.
Однако, несмотря на все эти особенности, процесс ее распада отразил противоречия и проблемы новой эпохи. Югославия как европейское государство являлась членом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), с деятельностью которого непосредственно связано принятие Заключительного акта.
Поэтому ей должно было быть гарантировано сохранение территориальной целостности.
Но в то же время в 1991–1992 гг. страна быстро фрагментировалась под влиянием стремления составлявших ее республик стать независимыми государствами. Трудно было найти решение возникшей проблемы в рамках сложившихся правил и норм. Это признавали в правительственных кругах ведущих стран мира, в том числе и Советского Союза. В декабре 1990 г. Г.Х. Шахназаров, один из ближайших соратников президента СССР М.С. Горбачева, в специальной записке «К вопросу о Югославии» на имя руководителя Советского Союза писал: «В откликах и комментариях [имеется в виду обсуждение югославской темы в СБСЕ. – Прим. А. Р.] просматривается общий вывод: в Югославии проявилось одно из глубоких противоречий современной эпохи – между государственным суверенитетом и правом народов на самоопределение. Оба принципа нашли всеобщее признание и закреплены в международном праве… Перед нами сейчас традиционная для международных отношений политическая задача: как совместить два справедливых интереса, не допустив при этом ущерба окружающим. Задача высшей политической сложности, и если ее не удастся решить, последствия могут быть катастрофическими»[23]. Определенную растерянность в отношении того, как относиться к начавшемуся распаду Югославии, испытывали и США, которые сначала поддерживали сохранение территориальной целостности СФРЮ и лишь в апреле 1992 г. признали независимость новых государств – Словении, Боснии и Герцеговины и Хорватии.
Совместить «справедливые» интересы не удалось. Мировое сообщество пошло по пути признания новой реальности, зафиксировавшей распад СФРЮ в 1991–1992 гг. и создание на месте бывших социалистических республик, входивших в нее, нескольких независимых национальных государств, а также новой федерации в составе Сербии и Черногории (Союзной Республики Югославии), которая в 2003 г. трансформировалась в конфедеративное государство Государственный союз Сербии и Черногории, которое, в свою очередь, в 2006 г. прекратило свое существование, распавшись на два суверенных независимых государства. Такая позиция в целом соответствовала содержащемуся в международном праве принципу uti possidetis, согласно которому новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи административно-политическими единицами в составе других государств или колониальных владений.
Отчасти политика признания новых независимых государств основывалась и на отсылке к Вводному разделу, Принципу 1 конституции СФРЮ 1974 г., в которой в самом общем плане провозглашалось право народов на выход из федерации[24]. Однако когда процессы дезинтеграции, во многом из-за политики тогдашнего руководства Сербии, затронули территорию недавно провозглашенных независимых государств (Боснии и Герцеговины, Хорватии, Автономного края Косово в составе Сербии), вопрос о том, как к этому относиться, с новой силой встал перед мировым сообществом. Но к тому времени Советский Союз перестал существовать, и биполярный миропорядок ушел в историю. Поэтому вопрос решался уже на совершенно иных основаниях. США и Евросоюз построили политику, исходя из признания Сербии главной виновницей нового витка войн на территории бывшей СФРЮ. Следуя этой логике, они поддержали территориальную целостность Хорватии и Боснии и Герцеговины, однако заняли совершенно иную позицию в отношении Косово, поддержав его независимость после военной операции НАТО против СРЮ в марте 1999 г. и ухода сербских сил безопасности с этой территории. Россия же заняла более взвешенную позицию, стремясь добиться компромисса по проблеме Косово и оказывая моральную поддержку сербскому меньшинству в Хорватии и боснийским сербам, создавшим Республику Сербскую. Однако постсоветская Россия уже не являлась полюсом в мировой системе и не имела военных, политических и экономических ресурсов для проведения активной политики на территории бывшей Югославии. В результате в мировую политику в ситуациях, когда принцип территориальной целостности входил в противоречие с правом на самоопределение, был внедрен новый подход, в соответствии с которым это противоречие разрешалось так, как это считали целесообразным международные акторы – энфорсеры (enforcers), обладавшие возможностью навязать в регионе свой порядок и заставить расположенные там государства соблюдать его[25]. В истории с Косово роль такого энфорсера сыграли США и их союзники по НАТО. Ссылки правительств западных стран на то, что сецессия Косово (Косóвы)является уникальным случаем (unique case), не смогли в дальнейшем локализовать применение этого подхода в мировой политике. Так, Россия в 2008 г. после так называемой «пятидневной войны» с Грузией признала независимость бывших грузинских автономий, к тому моменту уже давно вышедших из-под контроля правительства в Тбилиси – Абхазии и Южной Осетии, хотя их кейсы типологически сильно отличались от случая Косово. Тем не менее это решение в значительной мере обосновывалось отсылкой к признанию многими государствами, и в первую очередь США и их союзниками, независимости бывшего Автономного края Сербии. Изменение status quo в данном случае стало возможным потому, что в тот период Россия играла роль энфорсера, который изменил существующие границы, исходя из собственных интересов и представлений о справедливом порядке.
А вот Нагорно-Карабахская республика (НКР), возникшая на территории бывшей азербайджанской автономии в ходе кровавого межэтнического конфликта 1992–1994 гг., так и не получила даже частичного международного признания, хотя типологически кейс Карабаха был очень близок к ситуации с Косово. На территории автономии преобладало армянское население (как в Косово (Косóве) – албанское), и оно подвергалось дискриминации со стороны правительства Азербайджана, как албанцы – со стороны властей Сербии. Так случилось потому, что потенциальные энфорсеры – Россия, США и Европейский союз – в силу разных причин были заинтересованы в сохранении партнерских отношений с Азербайджаном, которые, несомненно, оказались бы под угрозой разрыва в случае признания независимости НКР. Россия рассматривала Азербайджан в качестве важного торгово-экономического партнера, США и ЕС – в качестве поставщика и одновременно страны – транзитера углеводородных ресурсов из Центральной Азии в Европу, а также противовеса растущему влиянию Ирана в Каспийском регионе и на Южном Кавказе.
Распад Югославии продемонстрировал, что строительство национальных государств, стержнем которых являются «политические нации», за пределами традиционного западного мира либо сталкивается с колоссальными трудностями, либо и вовсе не представляется возможным без сильного внешнего давления. Эти явления были обусловлены не только конкретно-исторической спецификой Югославии (схожие процессы происходили и на пространстве бывшего СССР), но имели под собой причины более широкого, общемирового характера. «Дело заключается в том, что национальное государство, которое многие страны пытались построить или имитировать его строительство, в большинстве незападных обществ не является эффективным прежде всего из-за несформированности нации, а также из-за другой по сравнению с Западом культуры, истории, системы базовых ценностей, ментальности»[26]. Разница между Югославией и СССР состояла в том, что в первом случае все республики преследовали одну цель – создание национальной государственности, а во втором – крупнейшая страна, Россия, в силу ряда обстоятельств (многонационального характера, тесной связи русской национальной идентичности с имперской государственностью) оказалась вне этих процессов, скорее напоминая бывшую метрополию. В этом смысле можно говорить о том, что рассматриваемые процессы осуществлялись в более «чистом», «модельном» виде.
И в Югославии, и в Советском Союзе процессы их распада и создания новых независимых государств хронологически совпали с переходом к рыночной модели развития. В условиях, когда прежние социальные, политические институты, экономические отношения и официальная идеология прекратили действовать, этничность оставалась единственным фактором, консолидирующим общество и обеспечивающим легитимность новых властей. Главным же фактором, препятствовавшим формированию политических наций, являлось отсутствие зрелых гражданских обществ: «Поскольку ни в СФРЮ, ни в отдельных республиках… не сложилось развитое полиэтничное гражданское общество, передел собственности происходит по этническому признаку, когда этническая общность, а не личность является субъектом государственного, имущественного и прочих видов права. Здесь утверждалась модель не полиэтничного государства-нации, как в Западной Европе, а моноэтничного государства-национальности»[27]. Также следует отметить и такую особенность югославского кейса (также проявившуюся и при распаде Советского Союза), как большой исторический опыт насилия в истории этой страны и ее народов. В связи с тем, что в большинстве республик бывшей Югославии существовала этническая «чересполосица», ключевым фактором в создании национальных государств стала этническая собственность на землю, территорию, историческое и юридическое обоснование этой собственности. И одновременно такое понимание реалий на уровне массового сознания стало решающим фактором перерастания межэтнических конфликтов в длительное вооруженное противостояние.
Если рассматривать создание национальных государств на территории Югославии в контексте начавшегося в конце 80-х годов прошлого века перехода бывших стран мирового социализма к демократии, то и здесь «югославский опыт» обозначил новую характерную тенденцию. Страны, в которых этнополитика стала играть решающую роль в создании национальной государственности, в большей степени были склонны к авторитаризму (Сербия при С. Милошевиче, Хорватия при Ф. Туджмане, Македония при Н. Груевском). Напротив, там, где влияние этнополитики было меньшим, а гражданское общество более развитым (Словения), процесс перехода к демократии носил более последовательный и поступательный характер. Этнополитический фактор, понимаемый, прежде всего, как собственность конкретного этноса на территорию, представляется, таким образом, явлением, способным корректировать траекторию транзита бывших социалистических стран в сторону обществ, построенных на свободном рынке и плюралистической демократии.
Распад Югославии, как и других социалистических федераций – Советского Союза и Чехословакии, – вызвал новую волну споров о жизнеспособности государств такого типа[28]. При этом большинство исследователей, даже разделявших идею о перспективности и потенциале развития этнофедераций, тем не менее полагали, что социалистические федерации были обречены, прежде всего из-за отсутствия развитых гражданских обществ и слишком высокой централизации управления, вызывавшей у правящих элит и населения входивших в федерации республик стойкое стремление освободиться от власти федерального центра. Разница в процессах их распада состояла лишь в том, что в Чехословакии, где были сильны демократические традиции и отсутствовала «чересполосица» при расселении народов, распад состоялся мирным путем. В Советском Союзе и, особенно, в Югославии, где этих факторов не было, затяжные военные конфликты стали неотъемлемой чертой жизни новых независимых государств на протяжении всей последней декады ХХ столетия. Лишь немногие исследователи придерживаются мнения, что СФРЮ являлась вполне эффективным федеративным проектом, который погубило неправильное административное деление, границы, проведенные таким образом, что «различные республики федерации не совпали с этническими территориями»[29]. Такой взгляд представляется большим упрощением, не учитывающим значение других рассмотренных выше факторов, предопределивших распад Югославии и других социалистических федераций.
В целом же вопрос о жизнеспособности этнофедераций остается открытым и в нынешнее время. С одной стороны, существуют тенденции к федерализации стран с компактно проживающими на определенных территориях национальными меньшинствами (Испания). А с другой – в рамках федеративных государств и государств с сильными элементами федерализма продолжаются попытки сецессии отдельных территорий с целью создания национальных государств (Каталония в Испании, Квебек в Канаде, Шотландия в Соединенном Королевстве), процессы трансформации этнофедераций в более рыхлые образования конфедеративного типа (Бельгия). Однако отличительная особенность этих процессов, затрагивающих развитые страны Запада, состоит в том, что они происходят исключительно в рамках правовых и конституционных процедур с использованием референдумов. И в этом в какой-то мере можно увидеть реакцию, отрицание, по крайней мере частью мирового сообщества, негативного югославского опыта национального самоопределения на основе этнополитики.
20
См., напр.: Белинский А.В., Никуличев Ю.В. «Американские горки»: эволюция отношений между США и ФРГ в 1989–2019 гг. // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2019. – № 4. – С. 135–157; Бисерко С. Гегемонистские националистические матрицы прошлого и будущее Балкан // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 84–100; Калоева Е.Б. Власть и гражданское общество на Западных Балканах, их роль во внешней политике глазами балканских и зарубежных исследователей // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2022. – № 2. – С. 68–86; Калоева Е.Б. Отечественные и зарубежные исследователи о настоящем и будущем Западных Балкан (Аналитический обзор) // Актуальные проблемы Европы. – 2019. – № 2. – С. 235–265; Романенко С.А. Балканы. Юго-Восточная Европа: регион-загадка и регион загадок // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 22–58; Яковина Т. Хорватская политика: Символика и бездействие // Актуальные проблемы Европы / РАН, ИНИОН. – 2021. – № 2. – С. 101–126.
21
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года // сайт ООН. – 1960. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/declarations/colonial.shtml (дата обращения: 23.01.2023).
22
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный Акт // ОБСЕ [сайт]. – Хельсинки, 1975. – С. 4–5. – URL: https://www.osce.org/files/f/ documents/0/c/39505_1.pdf (дата обращения: 23.01.2023).
23
Шахназаров Г.Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. – Москва: Россика: Зевс, 1993. – С. 505.
24
Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославия (1974 г.): пер. с сербохорв. // Sovetika.ru. – 1974. – URL: https://www.sovetika.ru/ sfrj/konst.htm (дата обращения: 23.01.2023).
25
Бляхер Л.Е. Издержки глобального лидерства и «соседская» международная политика // Международная аналитика. – 2021. – Т. 12, № 1. – С. 23–24.
26
Пантин В.И. Государство и государственность в первой половине XXI века: переформатирование в контексте глобальных сдвигов. Гл. 4 // Государство в политической науке и социальной реальности XXI века / под ред. И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкина, В.И. Пантина. – Москва: Весь мир, 2020. – С. 91.
27
Романенко С.А. Распад Югославии: «заговор» или историческая неизбежность? // Полития. – 1998. – № 2 (8). – С. 160.
28
Об этом см.: Фарукшин М.Х. Этнофедерализм: российский и зарубежный дискурс // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 10. – С. 40–51.
29
Калхун К. Национализм / пер. с англ. А. Смирнова. – Москва: ИД «Территория будущего», 2006. – С. 131.