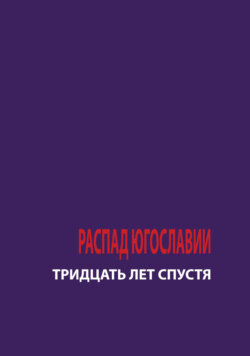Читать книгу Распад Югославии. 30 лет спустя - Группа авторов - Страница 6
Раздел I
Что такое распад СФРЮ
Глава 2
Взгляд этнолога: этнический фактор в процессе распада СФРЮ[30]
Характер межэтнических отношений в переходный период
ОглавлениеБалканский регион в 90-е годы ХХ в. стал ареной жесткой радикализации этнонациональных проектов, заставивших весь мир по-новому взглянуть на проблемы национализма, сепаратизма, экстремизма, терроризма, обеспечения прав меньшинств. Этнический фактор в постсоциалистический период приобрел на Балканах исключительно важное значение. Он стал питательной средой для укрепления здесь националистических сил; именно этнический принцип стал фундаментом организации политической и общественной жизни. Роль этнической идентичности, как правило, возрастает в эпоху перемен и общественных кризисов, при возникновении угрозы нарушения установленных границ. Поэтому и на Балканах в последние десятилетия ХХ в. этническое самоопределение становится наиболее релевантным, этническая идентичность утрачивает прежнюю амбивалентность и приобретает четкие границы.
Сразу же оговоримся, что значительная часть проблем переходного времени имеет отнюдь не этнический характер, в их основе скорее лежат политические, социальные, экономические факторы. Многие аналитики, на мой взгляд, ошибочно объясняют войны, протекавшие в последнее десятилетие ХХ в. на постъюгославском пространстве, древней и непримиримой неприязнью между отдельными этническими группами. Но именно проблемы межреспубликанских и межэтнических отношений, осложнявшиеся на базе экономических трудностей и подогревавшиеся определенными кругами в своих политических целях, стали своего рода катализатором тех процессов, которые привели к распаду федеративной Югославии, смене экономического и политического строя[31].
В бурных событиях, сопровождавших распад СФРЮ, этнический фактор играл определяющую роль. Не сошел он со сцены и после прекращения военных действий в регионе, в условиях модернизационных изменений общества. Трансформация государственной системы, пересмотр политических границ, межэтнические конфликты явились катализатором целого ряда процессов этнического характера. Они имели конкретное проявление в различных социальных сферах (в области государственности, религии, языка и др.). Следует обратить внимание на такие проблемы, как роль этнической составляющей в конфликтах, изменение этнической структуры региона, миграции населения, возникновение новых меньшинств и на другие вопросы, имеющие этническую окраску.
Обстановка, сложившаяся в Югославии в 1990 г., характеризовалась многими признаками бессилия и парализованности федерального руководства, потерявшего контроль над ситуацией в стране, победой на первых многопартийных выборах в ряде республик партий и движений, находившихся в оппозиции к коммунистам. В этих условиях, а также вследствие непримиримости позиций участников межреспубликанского диалога о путях преодоления политического, экономического и конституционного кризиса, Хорватия и Словения, наиболее экономически развитые республики СФРЮ, взяли курс на максимальную самостоятельность, поскольку считали, что не могут более развиваться в рамках модели государственного социализма. По этому же пути вслед за ними пошли Босния и Герцеговина и Македония, пересмотревшие свои позиции (на более раннем этапе они считали, что Югославию надо перестроить в современную федерацию). Югославия в ее послевоенной форме (т. е. вторая, федеративная, Югославия) перестала существовать.
Акцент необходимо сделать также на том, что аналогичное положение сложилось и на уровне взаимоотношений республики Сербии и входивших в ее состав автономных краев. Особенно острый, нередко даже драматичный характер эти противоречия приобрели между Сербией и на то время ее автономным краем Косово. В последнее десятилетие существования СФРЮ конфликты имели открытую форму и являлись одним из факторов резкого обострения межэтнической обстановки в стране в целом.
Основой существования как советской, так и югославской федераций было наличие единой на всей территории партийно-административной системы контроля над общественной жизнью. Поэтому не удивительно, что с ее крушением, появлением плюрализма во взглядах и действиях, ослаблением центральной власти и введением демократических процедур данная основа была подорвана, в той или иной форме стала распространяться идея суверенизации. Вместе с тем национализм этнического характера в переходный период стал восприниматься в качестве наиболее реальной альтернативы коммунизму. Многие организации политического спектра строились по этническому принципу (несмотря на то, что Закон об объединениях граждан от 21 февраля 1990 г.[32] запрещал создание партий на этнической основе) и стояли на позициях этнического национализма. Партии, смешанные по этническому составу и выступавшие за межнациональное взаимодействие, чаще всего были приверженцами коммунистической идеологии и в этот период перестали пользоваться популярностью у населения, стремившегося к переменам.
Кардинальная перестройка политических, экономических и социальных отношений привела к мобилизации именно на этнической почве в силу господства этнонационального принципа государственного строительства. Учитывая то, что югославское государство имело федеративное устройство, основанное, подобно устройству СССР, на этническом принципе, дезинтеграционные процессы и неизбежный кризис переходного периода тесно переплелись с осложнениями межэтнических отношений. Этничность стала определяющим фактором раскола общества, межгрупповые противоречия окрасились в этнические тона, поскольку именно этничность в СФРЮ была положена в основу классификации населения и его групповых прав. Когда группы стали отстаивать свои интересы и права на территории, этническая принадлежность стала гипертрофированно значимой.
Глубочайшим противоречием переходного периода оказалось сочетание двух принципов: нерушимости границ, основополагающего базиса европейской безопасности, и доктрины о «праве наций на самоопределение», сформулированной Томасом Вудро Вильсоном и имевшей большой вес со времени окончания Первой мировой войны. Опасная ловушка заключалась в конституционно закрепленном праве наций на самоопределение вплоть до полного отделения. В прошлые годы любой намек на использование этого конституционного права рассматривался как антикоммунистическая деятельность; с ослаблением партийно-административного контроля создалась возможность для использования этого конституционного права. Но трагедия заключалась в том, что не были разработаны механизмы его реализации.
Под нациями в югославском варианте, так же как и в случае СССР, понимались этнические общности, а не граждане одного государства (в данном случае жители республики). Таким образом, одним из факторов дезинтеграционных процессов явилось стремление отдельных этносов (а не всех жителей республик или автономных краев) реализовать право на самоопределение и создать свое «национальное» государство. Вновь возникшие государства концепцию своего устройства в большей или меньшей степени строили также на этническом принципе, хотя при этом и признавали полиэтничную структуру общества, конституционно определяя свое государство в качестве гражданского.
Реализация права на самоопределение, подстегиваемая стремлением к созданию моноэтничных государств, тенденцией к размежеванию по этническому принципу, спровоцировали в целом ряде случаев территориальные претензии, проблемы национальных меньшинств и другие сложности. В ряде случаев было сложно найти нужный баланс между этническими территориями и политическими границами. В условиях политического и экономического кризиса межэтническая дистанция увеличивалась, число межэтнических конфликтов возрастало, в борьбе за обретение суверенитета во взаимоотношениях отдельных народов усиливалась напряженность. Этнический национализм стал если не господствующей, то наиболее мощной силой в посттоталитарном обществе. Противоборствующие политические верхушки, независимо от своей партийной окраски, превратили национальный вопрос в козырь в своей борьбе за власть, не считаясь с его взрывоопасным характером. И в результате события вышли из-под контроля, привели к братоубийственным войнам и конфликтам, нередко затяжного и острого характера, гражданским войнам.
Массовая политическая мобилизация по этническим и религиозным направлениям, драматическое углубление существующих социальных различий, обострение политических конфликтов, игнорирование существовавших правил политической игры с параллельной попыткой выработать новые правила, неготовность к политической толерантности и т. п. – все эти явления имели место во всех республиках бывшей Югославии. В частности, с самого начала вóйны в этой части Европы были политическими, а не религиозными, несмотря на то что в них были вовлечены как минимум три народа и три крупнейшие мировые религии. Война началась из-за конкретных и несовместимых между собой программ выхода из кризиса и политической реорганизации целого региона.
Войны на территории бывшей Югославии, имевшие характер межэтнических конфликтов, были спровоцированы политической стратегией, доминировавшей в Югославии с конца 1980-х годов, и являлись следствием того политического идеала, к которому стремилось югославское общество. Этот идеал базировался на известных политических формулах: «Одна нация – одно государство. Только одна страна для каждой нации» и «Каждая нация – одна страна и целая (вся) нация в одной стране».
Эта политическая стратегия являлась программой политической реконструкции югославской федерации. Она была инспирирована философией так называемой «ошибочности полиэтничного государства», которая ведет к утверждению, что мультикультурализм несостоятелен. Согласно этой стратегии, выход из югославского кризиса искали путем политической реконструкции, основываясь на идее раздела страны на несколько национальных государств. Моноэтничное государство стало идеальной целью. Все это вело к абсолютизации проблемы национального суверенитета, а также параллельно поднимало вопрос территорий и границ. Этническая окраска националистической политической стратегии вела к этнификации, абсолютизации национального суверенитета, стремлению к гомогенности национальных государств, этнической чистоте и отрицанию культурного и этнического смешения.
Эти установки не были результатом патологической нетерпимости к лицам другой национальности, религии и культуры, а стали следствием роста национализма, попытки создать гомогенные и монокультурные национальные государства. Национализм на Балканах был политическим, связанным с борьбой за власть. Одной из его основных целей являлась борьба за территории, право на землю. Как только новые государства были признаны мировым сообществом, встал вопрос о том, кто же имеет право жить на этой земле. Этнический и религиозный фундамент процесса самоопределения стал политической реальностью. Раскол шел по этническому принципу. Но изгнание людей с земель, исходя из их этнической принадлежности, не имело в своей основе этническую несовместимость, решающим фактором было, подчеркиваю еще раз, право на территорию.
Распад страны, с одной стороны, и действия националистически настроенных политиков, с другой, вылились в стремление определить национальный суверенитет над землями. Этнизация политики повернула социальные конфликты в русло специфических конфликтов коллективной идентичности. Развязывание войны усилило напряженность этнического конфликта. Процесс создания новых государств протекал болезненно и сложно, правовые и конституционные нормы решения подобных вопросов отсутствовали, на повестке дня встали всевозможные территориальные претензии, носившие характер межэтнических противоречий. Югославский кризис развивался с севера на юг, причем с нарастающей интенсивностью и вовлечением в него все большего числа участников, в том числе и внешних сил.
31
См., напр.: Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. – Москва: Старый сад, 1998. – 466 c.
32
Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacijekoji se osnivajuza teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije // Službeni list SFRJ. – Beograd, 1990. – Broj 42/90.