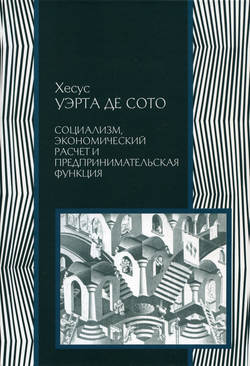Читать книгу Социализм: экономический расчет и предпринимательская функция - Хесус Уэрта де Сото, Эрнандо де Сото - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава II Предпринимательство
2. Особенности предпринимательства
ОглавлениеПредпринимательство и бдительность
Предпринимательство в узком смысле слова состоит в основном в том, чтобы открывать и подмечать (prehendo (исп.)) возможности для достижения какой-либо цели, получения прибыли или выгоды, и действовать, используя возникающие вокруг возможности. Кирцнер считает, что предпринимательство связано с особой бдительностью, то есть с постоянной настороженностью, позволяющей человеку обнаруживать и понимать то, что происходит рядом с ним[39]. Возможно, Кирцнер использует английское слово alertness (бдительность) из-за того, что entrepreneurship (предпринимательство) происходит из французского и в английском языке, в отличие от романских языков, не предполагает представления о prehendo. Во всяком случае, испанское прилагательное perspicaz (прозорливый) вполне подходит для предпринимательства, поскольку, как утверждает Словарь Испанской Королевской Академии, оно описывает «зоркий и очень острый взгляд»[40]. Это представление прекрасно согласуется с тем, чем занимается предприниматель, когда решает, какие действия он совершит, и когда оценивает будущий эффект этих действий. Хотя el estar alerta (бдительность), вероятно, тоже является приемлемым указанием на предпринимательство, поскольку предполагает внимание или пристальный взгляд, нам оно все-таки представляется менее подходящим, чем perspicaz, – возможно, потому, что подразумевает более статический подход. В то же время нам следует иметь в виду, что существует поразительное сходство между бдительностью, которую должен проявлять историк, отбирая и интерпретируя интересующие его важные события в прошлом, и бдительностью предпринимателя, относящейся к событиям, которые, как он считает, произойдут в будущем. На этом основании Мизес утверждает, что историки и предприниматели используют очень похожие подходы и даже дает такое определение: «предприниматель» – это тот, кто смотрит в будущее глазами историка[41].
Информация, знания и предпринимательство
Чтобы как следует уяснить свойства предпринимательства в нашем понимании, сначала нужно усвоить то, как оно модифицирует и меняет информацию и знания, которыми обладает действующий человек. Осознание или понимание новых целей и средств подразумевает модификацию знаний действующего человека в том смысле, что он обнаруживает новую информацию.
Кроме того, это открытие меняет всю карту, весь информационный контекст, которым обладает индивид. Давайте зададим себе следующий фундаментальный вопрос: какие свойства информации и знаний значимы с точки зрения предпринимательства? Мы подробно изучим 6 основных черт этого типа знания:
1) оно субъективно и носит практический, а не теоретический характер;
2) это эксклюзивное знание;
3) оно рассеяно в умах всех людей;
4) это в основном неявное знание и поэтому оно не выражено в словах;
5) это знание, созданное ex nihilo, из ничего, именно в связи с предпринимательством;
6) это знание, которое может быть передано, в основном бессознательно, посредством сложных социальных процессов, исследование которых является предметом экономической науки.
Субъективное и практическое, а не теоретическое знание
Интересующее нас знание – то, которое является ключевым для осуществления человеческой деятельности, – прежде всего субъективно и носит практический, а не научный характер. Практическое знание – это такое, которое нельзя представить формальным способом; оно приобретается посредством практики, то есть самой человеческой деятельности в ее разнообразных контекстах. Как считает Хайек, это знание имеет значение в конкретных обстоятельствах любого типа, то есть для различных множеств конкретных субъективных координат времени и места[42]. Говоря коротко, мы имеем в виду знание в виде конкретных человеческих суждений, в виде информации, относящейся к целям, которые преследует данный человек и к целям, которые, по его мнению, преследуют другие люди. Это знание также включает практическую информацию о средствах, которые, по мнению человека, доступны ему и могут дать ему возможность достичь его целей, особенно информацию обо всех обстоятельствах, личных или иных, которые, как считает действующий субъект, могут иметь для него значение в контексте любого конкретного действия[43].
Эксклюзивное и рассеянное знание
Практическое знание является эксклюзивным и рассеянным. Это означает, что каждый человек обладает только несколькими «атомами» или «битами» всей информации, которая генерируется и распространяется в обществе[44], и что, парадоксальным образом, этими битами владеет только он: иными словами, только он сознательно обращается к ним и интерпретирует их. Следовательно, каждый человек, действующий и занимающийся предпринимательством, делает это своим собственным, личным и неповторимым способом, поскольку он начинает с того, что стремится достичь определенных целей в соответствии с неким видением мира и некоей суммой знаний о нем, которыми во всех их разнообразных и многочисленных оттенках владеет только он и которые в этой форме недоступны никому другому. Поэтому знание, которое мы имеем в виду, не является данностью, чем-то, что может быть доступно каждому через материальные средства хранения информации (газеты, журналы, книги, компьютеры и т. п.). Напротив, знание, значимое для человеческой деятельности, является принципиально практическим и строго эксклюзивным; оно «распространяется» исключительно в сознании каждого из людей, которые действуют и составляют общество. На рис. II– 1 изображены симпатичные человечки, которые будут сопровождать нас через всю книгу, служа наглядной иллюстрацией нашего анализа[45].
Рис. II-1
Человечки на этом рисунке символизируют двух реальных людей из плоти и крови, которых мы будем называть А и В. Каждый из людей, которых обозначают А и В, обладает неким личным и эксклюзивным знанием, то есть знанием, которым не обладает другой. Действительно, с нашей точки зрения внешнего наблюдателя мы видим, что в этом случае «существует» знание, которым не обладает внешний наблюдатель, и что оно рассеяно между А и В, в том смысле, что частью его обладает А, а другой частью – В. Предположим, например, что информация, которой владеет А, состоит в том, что он планирует достичь цели X (эту цель обозначает направленная на X стрелка над его головой), и у него есть конкретное практическое знание, значимое в контексте его деятельности (набор практических знаний или информации обозначен лучиками вокруг головы А), чтобы помочь ему в этом. У В похожая ситуация, за исключением того, что он преследует совершенно иную цель Y (ее обозначает стрелка, направленная от его ног к Y). Набор практической информации, которую действующий В считает значимой в контексте своей деятельности, деятельности ради достижения Y, также изображен лучиками вокруг его головы.
Во многих случаях, когда деятельность является простой, действующий человек обладает всей необходимой информацией, чтобы достичь цели, и у него нет необходимости иметь дело с другими людьми. В таких ситуациях то, предпринимается действие или нет, зависит от экономического расчета, то есть от оценки, которую осуществляет действующий человек, прямо сравнивая и взвешивая субъективную ценность своей цели с издержками, то есть с ценностью, которую он приписывает тому, от чего он вынужден будет отказаться ради достижения избранной им цели. Человек может принять решение такого типа прямо только применительно к некоторым, очень простым типам действий. Большая часть деятельности, в которую мы вовлечены, гораздо сложнее и относится к типу, который мы сейчас опишем. Давайте представим себе, что, как изображено на рис. II-1, А горячо желает достичь цели Х, но для этого ему требуется средство R, которое ему недоступно и про которое он не знает, где или как его найти. Давайте также предположим, что В находится в другом месте, что он стремится к совершенно другой цели (к цели Y), направляя на это все свои усилия, и что он знает, или имеет в своем распоряжении достаточное количество ресурса R или знает о существовании ресурса R, который не нужен или не подходит для его целей, но при этом случайным образом представляет собой именно то, что необходимо А, чтобы достичь желанной для него цели (X). В действительности, мы должны указать, что Х и Y противоречат друг другу, как в большинстве реальных случаев: люди преследуют разные цели с различной степенью интенсивности и обладают несопоставимыми или рассогласованными знаниями об этих целях и о средствах, находящихся в их распоряжении (этим объясняются унылые физиономии наших человечков). Позже мы увидим, как предпринимательство позволяет преодолеть эти противоречия и отсутствие координации.
Неявное знание, которое невозможно выразить словами
Практическое знание – это в основном неявное знание, которое нельзя выразить словами (неартикулируемое знание). Это означает, что человек знает, как выполнить какие-то действия (знание как), но он не может выделить части или элементы того, что он делает или определить, ложны они или истинны (знание что)[46]. Например, когда человек учится играть в гольф, обучение состоит не в том, что он зазубривает набор объективных научных правил, позволяющих ему делать нужные движения, предварительно рассчитав их с помощью формул математической физики. Вместо этого процесс обучения состоит в том, что он усваивает определенные практические навыки поведения. Мы можем также вслед за Поланьи сослаться на пример человека, который, учась ездить на велосипеде, пытается сохранить равновесие, поворачивая руль в ту сторону, в которую он начинает падать, и создавая тем самым центробежную силу, не дающую велосипеду упасть, – при том, что практически ни один велосипедист не знаком с физическими принципами, стоящими за его умением, и не осознает их. Наоборот, на самом деле велосипедист использует свое «чувство равновесия», которое каким-то образом подсказывает ему, как себя вести в каждый момент времени, чтобы не упасть. Поланьи утверждает даже, что неявное знание в действительности представляет собой доминирующий принцип любого знания[47]. Даже максимально формализованное и научное знание всегда восходит к интуитивной догадке или к творческому акту, то есть к проявлениям неявного знания. Кроме того, новое, формализованное знание, источником которого являются формулы, книги, графики, карты и т. п., значимо для нас в основном потому, что оно помогает нам реструктурировать всю уже имеющуюся у нас информацию в контексте иного, более глубокого и ценного общего видения, что в свою очередь открывает новые возможности для творческой интуиции. Поэтому невозможность передать вербально практическое знание выражается не только «статически» – в том смысле, что любое, на первый взгляд, явно сформулированное утверждение содержит информацию только постольку, поскольку оно интерпретируется посредством определенного сочетания мнений и неартикулируемого знания, – но и «динамически», поскольку мыслительный процесс, который используется для любой попытки вербализации, представляет собой неявное знание, не поддающееся артикулированию[48].
Следует подчеркнуть, что любое неявное знание сложно выразить в силу самой его природы. Если спросить у девушки, которая только что купила юбку определенного цвета, почему она ее выбрала, она, скорее всего, ответит: «Просто так»; или: «Потому что она мне понравилась», – и не сможет предоставить нам более подробное и формализованное объяснение своего выбора. Другой тип неартикулируемого знания, играющего ключевую роль в функционировании общества, представлен набором обычаев, традиций, институтов и юридических норм, в совокупности образующих право, которое делает возможным существование общества. Люди обучаются следовать нормам, несмотря на то, что не могут теоретизировать на их счет и подробно описать точную функцию, которую эти нормы и институты исполняют в различных ситуациях и в общественных процессах, где они участвуют. То же самое можно сказать о языке, а также, например, о финансовом учете и учете издержек, использующимся предпринимателями в качестве ориентира для своих действий и представляющим собой просто практические знания или инструменты, которые в контексте конкретной рыночной экономики обеспечивают предпринимателей общими директивами для достижения их целей, хотя большинство предпринимателей неспособны сформулировать научную теорию учета и уж тем более неспособны объяснить, какую роль он играет в сложных процессах координации, делающих возможной жизнь в обществе[49]. На этом основании можно сделать вывод, что предпринимательство в нашем понимании (способность открывать и замечать возможности извлечения прибыли и сознательно использовать их) в сущности сводится к неявному знанию, которое невозможно выразить словами.
Принципиально творческая природа предпринимательства
Занятие предпринимательством не требует никаких средств. Это значит, что предпринимательство не порождает никаких издержек и по своему существу носит творческий характер[50]. Творческий аспект предпринимательства воплощается в том, что оно производит прибыль такого рода, которая, в определенном смысле, возникает из ничего и которую мы будем называть чистой предпринимательской прибылью.
Рис. II-2
Чтобы извлечь предпринимательскую прибыль, человеку не нужно предварительно никаких средств – ему нужно только правильно распорядиться своей предпринимательской способностью. Чтобы проиллюстрировать это, вернемся к ситуации, изображенной на рис. II-1. Простого осознания того, что между А и В имеется рассогласованность или отсутствует координация, достаточно, чтобы из него немедленно вспыхнула искра возможности извлечения чистой предпринимательской прибыли[51]. Рис. II-2 соответствует предположению, что предпринимательством занимается некто третий, в данном случае С, и что он приступает к этому, открыв возможность получения прибыли, вытекающую из рассогласованности и отсутствия координации, которые изображены на рис. II-1. (Лампочка показывает то, что С увидел эту возможность. Вполне логично, что на практике предпринимательством могут заниматься А, В или оба одновременно, с различной или одинаковой интенсивностью, но в наших целях для большей наглядности мы используем третье лицо С.)
На самом деле С нужно только вступить в контакт с В и предложить купить у него по какой-нибудь цене, скажем, за три денежных единицы, тот ресурс, который в изобилии доступен для Бине имеет для него почти никакого значения. В будет ужасно рад, поскольку ему никогда не приходило в голову, что он может столько получить за имеющийся у него ресурс. Вслед за этой сделкой С получает возможность вступить в контакт с А и продать ему ресурс, который так остро нужен А для достижения его цели. С может продать А этот ресурс, например, за 9 денежных единиц. (Если у С нет денег, то он может достать их, например, убедив кого-нибудь дать ему на время в долг.) Итак, с помощью предпринимательства С извлекает ex nihilo чистую предпринимательскую прибыль в размере 6 денежных единиц[52].
На этом этапе особенно важно подчеркнуть, что у данного акта предпринимательства имеются три чрезвычайно важных последствия. Во-первых, предпринимательство создало новую информацию, которой раньше не существовало. Во-вторых, эта информация была передана с помощью рынка. В третьих, данный предпринимательский акт научил его участников подстраивать свое поведение под поведение других. Эти последствия предпринимательства настолько важны, что их имеет смысл рассмотреть по отдельности.
Создание информации
Каждый предпринимательский акт приводит к созданию новой информации ex nihilo. Информация создается в уме того индивида (в нашем случае человечка С), который первым приступает к предпринимательству. Действительно, когда С понимает, что существует ситуация с участием А и В, подобная описанной нами, у него в уме появляется новая информация, которой он до того не обладал. Более того, как только С начинает действовать и вступает в контакт с А и В, новая информация возникает также в умах А и В. Так, А понимает, что ресурс, которого у него не было и в котором он так остро нуждался для достижения своих целей, доступен в ином месте на рынке в больших количествах, чем он думал, и что, следовательно, теперь он может предпринять то действие, к которому не мог приступить ранее из-за отсутствия этого ресурса. В, в свою очередь, понимает, что имеющийся у него в изобилии ресурс, которого он не ценил, является объектом желания других, и что, следовательно, он может дорого продать его. Кроме того, часть новой практической информации, которая первоначально появилась в уме С в ходе его предпринимательской деятельности, а позже возникла в умах А и В, в сильно сокращенной и сжатой форме фиксируется в данных о цепах, или об исторических пропорциях обмена (то есть, что В продал за три денежных единицы, а А купил за девять).
Передача информации
Создание информации предпринимательством подразумевает ее передачу на рынке. Действительно, передать что-то кому-то означает стать причиной того, чтобы в уме этого человека возникла часть информации, созданной или обнаруженной нами до этого. Строго говоря, хотя в нашем примере произошла передача В мысли о том, что его ресурс важен и он не должен расходовать его попусту, а А – передача мысли, что он может приступить к реализации цели, которую поставил себе, но не начал осуществлять из-за отсутствия конкретного ресурса, распространение информации на этом не закончилось. Действительно, соответствующие цены, образующие чрезвычайно мощную систему передачи (ведь они передают большой объем информации при очень низких издержках), распространяясь волнами по всему рынку и в обществе, сообщают рынку и обществу о том, что данный ресурс следует накапливать и производить, поскольку на него есть спрос, и в то же самое время – что все те, кто воздерживался от действий, потому что считал, что этого ресурса не существует, могут получить его и приступить к реализации соответствующих планов. С логической точки зрения, важная информация всегда субъективна и не существует вне людей, способных истолковать или обнаружить ее, поэтому информацию всегда создают, воспринимают и передают люди. Ошибочное представление, что информация объективна, проистекает из того, что часть созданной предпринимательством субъективной информации «объективно» выражается в знаках (ценах, институтах, правилах, «фирмах» и т. п.), и многие могут обнаружить их и субъективно интерпретировать в контексте своих конкретных действий, тем самым облегчая создание новой, более разнообразной и сложной субъективной информации. Однако, несмотря на видимость, передача социальной информации в основном является неявной и субъективной; это значит, что информация не формулируется специально и сообщается в сильно сокращенном виде. (Действительно, субъективно сообщается и воспринимается необходимый для координации социальных процессов минимум информации.) Это позволяет людям наилучшим образом использовать ограниченную способность человеческого ума непрерывно создавать, обнаруживать и передавать новую информацию.
Обучающий эффект: координация и приспособление
Наконец, нам следует обратить внимание на то, каким образом действующие субъекты А и В научились действовать, подстраиваясь друг под друга. В результате предпринимательской деятельности, которой первоначально занялся С, В больше не обходится расточительно с имеющимся у него ресурсом, а сохраняет его, действуя в своих собственных интересах. Поскольку в таком случае А может рассчитывать на этот ресурс, он в состоянии достичь своей цели и приступает к той деятельности, от которой отказывался ранее. Итак, оба учатся действовать скоординировано, то есть обуздывать себя и подстраивать свое поведение к нуждам другого. Кроме того, обучение происходит наилучшим из возможных способов: по собственному побуждению и не осознавая факта обучения; иными словами, добровольно и в рамках плана, где каждый из них стремится к своим личным целям и преследует собственные интересы. Именно это является ядром изумительного по своей простоте и эффективности процесса, который делает возможной жизнь в обществе[53]. Наконец, мы видим, что предпринимательская активность С не только делает возможными отсутствовавшие до этого координированные действия А и Б, но и позволяет им обоим произвести экономический расчет для собственных действий, используя ранее недоступные данные и информацию, владение которыми значительно повышает вероятность того, что каждый из них достигнет своей цели. Короче говоря, именно информация, порождаемая в ходе предпринимательского процесса, и есть то, что позволяет каждому действующему субъекту произвести экономический расчет. В отсутствие предпринимательского процесса информация, необходимая людям для того, чтобы правильно посчитать или оценить ценность каждого из возможных вариантов действий, не возникает. Итак, в отсутствие предпринимательства экономический расчет невозможен[54].
В этих наблюдениях заключаются важнейшие и наиболее фундаментальные уроки социальной науки, позволяющие нам сделать вывод о том, что предпринимательство, несомненно, является наиболее существенной из социальных функций, поскольку, корректируя и координируя поведение его отдельных членов, оно делает возможной жизнь в обществе. В отсутствие предпринимательства представить существование какого бы то ни было общества невозможно[55].
Арбитраж и спекуляция
Во временном аспекте предпринимательством можно заниматься двумя различными способами: синхронным и диахронным. Первый способ называется арбитражем и представляет собой предпринимательство, осуществляемое в настоящем (имеется в виду временное настоящее с точки зрения действующего человека)[56] и использующее различие между двумя разными местами или двумя ситуациями в обществе. Второй способ называется спекуляцией и обозначает предпринимательство, осуществляющееся между двумя разными моментами во времени. Можно было бы подумать, что в случае арбитража предпринимательство сводится к обнаружению и передаче уже существующей, но рассеянной информации, а в случае спекуляции создается и передается «новая» информация. Однако эта разница – искусственная, потому что обнаружить то, что «уже существовало», если никто не знал, что оно существовало, – это то же самое, что создать. Таким образом, в качественном и теоретическом отношении между арбитражем и спекуляцией нет разницы. Оба типа предпринимательства порождают социальную координацию (интратемпоральную в случае арбитража и интертемпоральную в случае спекуляции) и создают одни и те же тенденции, направленные на коррекцию и координацию.
Право, деньги и экономический расчет
В ситуации, изображенной на нашем рисунке, Сне мог бы с такой легкостью заниматься предпринимательским творчеством, если бы кто-либо был властен отобрать у него ее результат силой или, например, если бы А или В обманули его и не предоставили бы ему ресурс или обещанные денежные единицы. Это означает, что предпринимательство и вообще человеческая деятельность требуют от участников постоянного и непрерывного следования определенным стандартам и нормам поведения: иными словами, они должны повиноваться закону. Этот закон состоит из ряда шаблонов поведения, которые были развиты и улучшены посредством обычая. Эти шаблоны определяют в основном права собственности (то, что Хайек недавно назвал several property – индивидуализированной собственностью[57]), и их можно свести к нескольким фундаментальным принципам: уважение к жизни, гарантии владения ненасильственно приобретенной собственностью, переход собственности из рук в руки по взаимному согласию и исполнение обещаний[58]. Анализ оснований законных прав, делающих возможной жизнь в обществе, можно проводить с трех различных, но дополняющих друг друга точек зрения: утилитаризма, эволюционизма и обычая, теории социальной этики прав собственности. Однако подобный анализ выходит за границы этого проекта, и поэтому мы просто скажем, что, в то время как право делает возможным осуществление человеческой деятельности, а следовательно, возникновение и развитие общества и цивилизации, оно одновременно является эволюционным продуктом предпринимательского процесса и не является ничьим единоличным сознательным произведением. Юридические институты, и все социальные институты вообще (язык, деньги, рынок и т. п.) возникают в результате эволюционных процессов, в которые на протяжении истории вносит вклад – в виде практической информации и собственного предпринимательского творчества – множество отдельных людей. Таким образом, в соответствии с известной теорией Менгера, они стихийно порождают институты[59], которые, без сомнения, представляют собой результат взаимодействия многих людей, несмотря на то, что они не были никем сознательно спроектированы или организованы. Дело в том, что ни один человеческий ум и ни одно организованное множество человеческих умов не обладают необходимыми интеллектуальными способностями для того, чтобы объять и постичь огромный объем практической информации, участвовавшей в постепенном формировании, консолидации и позднейшем развитии этих институтов[60]. Итак, парадоксальная истина состоит в том, что человек не способен создать сам, намеренно, самые важные и необходимые для его жизни в обществе институты (лингвистические, экономические, правовые и моральные), потому что это превышает его интеллектуальные возможности. Эти институты постепенно возникли в ходе предпринимательского процесса человеческого взаимодействия и распространились на все более и более широкие группы с помощью описанного выше бессознательного механизма обучения и подражания. Кроме того, возникновение и усовершенствование институтов обеспечивает, с помощью типичного для них механизма обратной связи, рост разнообразия и сложности предпринимательского процесса человеческого взаимодействия. По той же причине, по какой человек был неспособен намеренно создать свои институты[61], он также неспособен полностью постичь ту роль, которую существующие институты играют в каждый отдельный исторический момент. Институты и порождающий их социальный порядок постепенно становятся все более абстрактными в том смысле, что уже невозможно выделить и различить бесконечное множество разнообразных конкретных знаний, которыми располагают люди, действующие в границах какого либо института, и преследуемых ими личных целей. Институты – это крайне могущественные знаки, потому что все они состоят из норм поведения или обычаев и, таким образом, руководят действиями людей.
Из всех этих институтов деньги являются, вероятно, наиболее абстрактным и, соответственно, самым сложным для понимания. Действительно, деньги, или общепризнанное средство обмена, – это один из институтов, жизненно необходимых для существования и развития нашей цивилизации. Однако очень немногие люди хотя бы интуитивно понимают, каким способом деньги обеспечивают экспоненциальный рост возможностей социального взаимодействия и предпринимательского творчества, и какую роль они выполняют, упрощая и делая возможными чрезвычайно сложные и все более и более трудоемкие экономические расчеты, которые требуются современному обществу[62]’ [63].
В нашей элементарной модели предпринимательства мы приняли как данность то, что деньги существуют, и что, следовательно, А, В и С согласны совершать сделки в обмен на определенное количество денежных единиц. Деньги имеют значение, потому что, как показал Мизес, они представляют собой общий знаменатель, который делает возможным экономический расчет применительно ко всем благам и услугам, являющимся объектами торговли или обмена между людьми. Итак, пусть термин «экономический расчет» обозначает любой приблизительный расчет в денежных единицах результатов различных вариантов действий. Такой экономический расчет делает любой человек во всех тех случаях, когда он проявляет предпринимательство; он возможен исключительно благодаря существованию денег и практической информации, которую постоянно генерирует и передает предпринимательство[64].
Вездесущность предпринимательства
Все люди, когда они действуют, проявляют предпринимательство. Они проявляют его в большей или меньшей степени, с большим или меньшим успехом. Иными словами, предпринимательство в своем наиболее чистом виде вездесуще. Например, предпринимательство проявляет рабочий, когда ищет новое место и решает, менять или нет работу, принять предложение работы или нет и т. п. Если он принимает мудрые решения, он найдет более привлекательную работу, чем в иных обстоятельствах. Если его выбор неудачен, то условия его труда окажутся хуже, чем могли бы быть. В первом случае он получит предпринимательскую прибыль, во втором – понесет убыток.
Капиталист тоже постоянно проявляет предпринимательство. Он проявляет его, например, тогда, когда решает нанять одного менеджера, а не другого или когда изучает возможность продажи одной из своих компаний, вхождения в какую-либо отрасль или включения в свой портфель какой-либо конкретной комбинации бумаг с фиксированным доходом и бумаг с переменным доходом и т. п. Наконец, потребитель тоже постоянно действует как предприниматель. Он ведет себя как предприниматель, когда пытается решить, какое потребительское благо он предпочитает, когда следит за новыми продуктами на рынке или, наоборот, когда решает прекратить тратить время на поиски новых возможностей и т. п. Итак, в реальной жизни предпринимательство, в форме конкретных действий и предприятий, происходит ежедневно, в той или иной степени и с большим или меньшим успехом. Предпринимательство проявляют все, кто действует на рынке, вне зависимости от того, в какой роли они там выступают, и соответственно на практике чистые предпринимательские прибыли и убытки почти всегда смешаны с доходами других экономических категорий (с заработной платой, незаработанными доходами и т. п.). Только подробное историческое исследование поможет нам определить для каждого конкретного случая, в чем состоят такие прибыли и убытки и кто в наибольшей степени проявил себя как предприниматель в контексте каждого отдельного действия или предприятия.
Основной принцип
С теоретической точки зрения по-настоящему важно не то, кто конкретно исполняет предпринимательскую функцию (хотя в практическом отношении именно это – самый важный вопрос) – важна ситуация, когда нет институциональных и юридических ограничений на осуществление предпринимательства, и, следовательно, любой человек может использовать свои предпринимательские способности, извлекая преимущества из той эксклюзивной практической информации, которую он обнаружил в каждом конкретном случае.
Исследовать более глубоко происхождение той врожденной силы, которая побуждает человека действовать по-предпринимательски во всех областях жизни – это задача не для экономиста, а для психолога. На этом этапе мы хотим просто подчеркнуть следующий основополагающий принцип: человек стремится находить интересующую его информацию и в силу этого, при условии, что он свободен в достижении своих целей и отстаивании своих интересов, его цели и интересы будут работать как стимулы,45 для предпринимательства, позволяя ему замечать и находить практическую информацию, необходимую для реализации его стремлений. Верно также и обратное. Если в какой-либо области жизни общества, все равно, по какой причине, предпринимательство ограничено или запрещено (посредством принудительных юридических или институциональных ограничений), то люди даже не станут рассматривать возможность достижения целей в этой запретной области, и, следовательно, раз цели не будут достижимыми, то они не будут работать как стимулы и действующий субъект, соответственно, не будет ни замечать, ни находить никакой практической информации, значимой для их достижения. Кроме того, в этих условиях даже те люди, которых это затронет, не будут осознавать огромной ценности и многочисленности тех целей, которые перестают быть осуществимыми в результате институциональных ограничений[65]. На примере человечков, изображенных на рис. II– 1 и II-2, мы видим, что если люди свободны в своей человеческой деятельности, то в каждом случае социальной рассогласованности и отсутствия координации свободно может загореться «предпринимательская лампочка», запустив процесс создания и передачи информации, процесс, приводящий к устранению рассогласованности; именно такая координация делает жизнь в обществе возможной. Однако, если в какой-либо сфере имеются препятствия для предпринимательства, то «предпринимательская лампочка» загореться не может. Иными словами, у предпринимателя нет возможности обнаружить существующую рассогласованность, которая в силу этого продолжает существовать и может даже углубляться. С этой точки зрения, легко оценить мудрость старой испанской поговорки ojos que по ven, corazon que no siente [ «с глаз долой – из сердца вон»], которая описывает как раз рассматриваемую нами ситуацию. Парадокс в том, что человек не способен ощутить или заметить то, что он теряет, в ситуации, когда он неспособен свободно действовать или проявлять предпринимательство[66].
Наконец, следует помнить, что каждый действующий человек обладает каким-то количеством битов практической информации, которую, как мы видели, он склонен находить и использовать для реализации какой-либо цели. Несмотря на последствия, которые это имеет для всего общества, данной конкретной информацией владеет только действующий человек; это значит, что только он осознанно обладает ей и осознанно интерпретирует ее. Понятно, что мы не имеем в виду ту информацию, которая публикуется в специализированных журналах, книгах, газетах, хранится в компьютерах и т. п. Для общества значимы исключительно та информация и те знания, которые в данный исторический момент кто-либо осознает, – пусть и неявно, как это имеет место в большинстве случаев. Следовательно, всякий раз, когда человек действует и проявляет предпринимательство, он делает это характерным лично для него индивидуальным и неповторимым способом, вытекающим из его стремления достичь определенных целей или прийти к конкретному видению мира, причем стимулами для него служат все эти цели – цели, которые в данной конкретной форме и в данных конкретных обстоятельствах имеются только у него, и ни у кого другого. Это позволяет каждому человеку добывать конкретные знания и информацию, которые он обнаруживает только в связи со своими целями и обстоятельствами и которыми в идентичной форме не может обладать никто другой[67].
Из этого следует насущная необходимость считаться с любыми проявлениеми предпринимательства. Даже самые скромные люди с самым низким социальным статусом, не обладающие формальным знанием, эксклюзивно владеют как минимум маленькими кусочками или фрагментами знания или информации, которая может иметь решающее значение для хода исторических событий[68]. С этой точки зрения очевидно, что наша концепция предпринимательства имеет принципиально гуманистическую природу и превращает экономическую теорию прежде всего в гуманистическую науку.
Конкуренция и предпринимательство
По самой своей природе и по определению предпринимательство всегда является конкурентным[69]. Это означает, что как только человек обнаруживает конкретную возможность получения прибыли и начинает действовать, эта возможность исчезает и никто другой не может увидеть ее и воспользоваться ей. Точно так же, если человек обнаруживает возможность получения прибыли лишь частично, или, обнаружив ее полностью, использует ее лишь частично, то определенная доля этой возможности остается латентной и другой человек может обнаружить ее и воспользоваться ей. Следовательно, социальный процесс носит ярко выраженный конкурентный характер в том смысле, что различные действующие субъекты сознательно или бессознательно конкурируют друг с другом за то, чтобы первыми обнаружить и использовать возможности для извлечения прибыли[70].
В нашей модели, иллюстрацией которой служат человечки, нам следует изображать предпринимательство не с помощью одной «лампочки», как мы сделали из соображений простоты, а одновременным и последовательным появлением множества «лампочек», символизирующих многочисленные различные акты диагностики и экспериментирования с новыми и разнообразными решениями проблемы отсутствия социальной координации, соперничающими друг с другом, так что не все они смогут добиться успеха или стать господствующими.
Каждый предпринимательский акт вскрывает, координирует и устраняет случаи социальной рассогласованности, а ввиду принципиально конкурентной природы предпринимательства ни у кого нет возможности заново заметить и устранить несогласованность после того, как она была обнаружена и урегулирована. Можно было бы ошибочно решить, что социальный процесс, движущей силой которого является предпринимательство, мог бы затухнуть и прекратиться или исчезнуть после того, как энергия предпринимательства обнажила и исчерпала все существующие возможности для социальной корректировки. Однако предпринимательский процесс социальной координации никогда не прекращается и не исчерпывается. Это происходит потому, что основной координирующий акт, суть которого мы объяснили с помощью рис. II– 1 и II-2, сводится к созданию и передаче новой информации, неизбежно меняющей общее восприятие средств и целей у всех его участников. Это изменение, в свою очередь, вызывает бесчисленные новые случаи несогласованности, представляющих собой новые возможности для извлечения предпринимательской прибыли, и этот динамический процесс распространяется, никогда не останавливается и приводит к постоянному развитию цивилизации. Иными словами, предпринимательство не только делает жизнь в обществе возможной, координируя рассогласованное поведение его членов, но также обеспечивает развитие цивилизации, постоянно приводя к созданию новых целей и нового знания, которые волнами распространяются во всем обществе. Кроме того, оно осуществляет крайне важную функцию, позволяя этому развитию быть максимально согласованным и гармоничным, насколько это возможно при данных исторических условиях, поскольку та несогласованность, которая постоянно воспроизводится по мере развития цивилизации и появления новой информации, в свою очередь обычно обнаруживается и устраняется самой предпринимательской энергией человеческого действия[71]. Это значит, что предпринимательство является той силой, которая объединяет общество и обеспечивает его гармоничное развитие, так как оно берет на себя координацию неизбежных и необходимых случаев несогласованности, вызванных этим развитием[72].
Разделение знания и расширенный порядок общественного сотрудничества
С учетом ограниченной способности человеческого ума усваивать информацию и растущего объема новой информации, постоянно создаваемой в ходе социального процесса, двигателем которого является предпринимательство, понятно, что развитие общества требует постоянного расширения и углубления разделения знания. Эта идея в исходной, неуклюжей объективистской формулировке «разделение труда»[73] просто означает, что процесс развития, если смотреть на него с высоты птичьего полета, подразумевает постоянное углубление, специализацию и детализацию знания, которому, чтобы распространяться горизонтально, требуется постоянно растущее население. Рост населения одновременно является следствием развития цивилизации и необходимым условием для него, так как возможности человеческого ума довольно ограничены и он не в состоянии воспроизвести огромный объем практической информации, что было бы необходимо в том случае, если бы постоянное создание людьми посредством предпринимательства новой информации не сопровождалось соответствующим ростом числа людей и человеческих умов. Рис. II-4 изображает процесс, посредством которого разделение практического и рассеянного знания углубляется и распространяется – процесс, который приводится в движение предпринимательством и представляет собой развитие общества[74].
Цифры на рис. II-4 обозначают различных людей. Буквы обозначают практическое знание, которое каждый из людей использует при достижении своих целей.
Рис. II-4
«Зажженные лампочки» над стрелками в центре рисунка изображают предпринимательский акт, открывающий преимущества торговли и горизонтального разделения знаний; действительно, мы видим, что во втором ряду люди не просто воспроизводят знание ABCD, которое есть у всех остальных: вместо этого человечек 2 специализируется в АВ, 3 и 4 – в CD, и все они торгуют друг с другом продуктами своей предпринимательской деятельности. Лампочки по бокам символизируют предпринимательское создание новой информации, которое вызывает рост вертикального разделения знания. Действительно, новые идеи возникают потому, что каждому из действующих субъектов больше не нужно воспроизводить все рассеянное знание, которым обладают другие действующие субъекты. Кроме того, углубление и усложнение знания требует роста населения, то есть появления новых людей (под номерами 5, 6, 7 и 8), которые, в свою очередь, способны создавать новую информацию и получать ее от своих «родителей» – информацию, которую они распространяют во всем обществе посредством торговли. Короче говоря, невозможно обладать растущим знанием в увеличивающемся числе конкретных областей, если численность населения не растет. Иными словами, главным ограничением для развития цивилизации является демографическая стагнация, поскольку она замедляет процесс, посредством которого практическое знание, необходимое для экономического развития, становится более глубоким и более специализированным[75].
Творчество versus максимизация
Фундаментальный смысл предпринимательства, или человеческой деятельности, состоит не в оптимальном распределении данных средств относительно целей, которые являются данностью. Вместо этого, как мы уже видели, в процессе предпринимательства человек воспринимает, определяет и узнает цели и средства, то есть активно и творчески ищет и находит новые цели и средства. Соответственно, нам следует особенно критично подойти к тому неуклюжему и узкому представлению об экономической теории, которое восходит к Роббинсу и его известному определению этой дисциплины как науки, изучающей человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление[76]. Эта позиция подразумевает предсуществование знания о целях и средствах, и, таким образом, сводит проблемы экономической теории к технической проблеме простого распределения, максимизации и оптимизации. С точки зрения Роббинса и его последователей, человек – это автомат или карикатура на человека, способная лишь пассивно реагировать на события. Этой точке зрения противостоит позиция Мизеса, согласно которому человек является homo agens (человеком действующим) или homo empresario (человеком предпринимательским) даже в большей степени, чем homo sapiens (человеком разумным), потому что он действует. На самом деле человек не просто распределяет наличные средства в соответствии с данными целями, а постоянно находит новые цели и средства, извлекая уроки из прошлого и пользуясь своим воображением, чтобы обнаруживать и шаг за шагом создавать будущее[77]. На самом деле, как убедительно показал Кирцнер, даже те действия, которые на первый взгляд кажутся чисто максимизирующими или оптимизирующими, содержат в себе предпринимательский компонент, поскольку действующий субъект должен сначала осознать, что именно подход такого рода – автоматический, механический и пассивный – является в данном случае самым выгодным[78]. Иными словами, концепция Роббинса представляет собой просто частный и относительно маловажный случай модели Мизеса, которая является более глубокой, более общей и гораздо лучше объясняет социальную реальность.
Заключение: наша концепция общества
В завершение мы определяем общество[79] как процесс (то есть динамическую структуру). Этот процесс: стихийный и, таким образом, у него нет сознательного «проектировщика»; очень сложный, так как он включает миллиарды людей с их бесконечно разнообразными целями, вкусами, оценками и практическими знаниями; состоящий из человеческих взаимодействий (по сути представляющих собой акты обмена, которые часто продуцируют денежные цены и всегда происходят в соответствии с определенными правилами, обычаями или нормами поведения). За всеми человеческими взаимодействиями такого рода стоит сила предпринимательства, постоянно создающая, обнаруживающая и передающая информацию по мере того, как она с помощью конкуренции корректирует и координирует противоречащие друг другу планы отдельных индивидов и дает им возможность сосуществовать во все более разнообразной и сложной среде[80].
39
Israel М. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, 65 and 69 [Кирцнер. Конкуренция и предпринимательство. 2-е изд. С. 36–37 и 70].
40
«La vista or mirada muy aguda у que alcanza mucho».
41
«Действующий человек смотрит в будущее глазами историка» (Mises, Human Action, 58 [Мизес. Человеческая деятельность. С. 58]).
42
Фома Аквинский определяет конкретные обстоятельства как accidentia individualia humanorum actuum (то есть индивидуальные качества человеческих действий) и утверждает, что, за исключением времени и места, наиболее значимым из этих конкретных обстоятельств является цель, которой действующий субъект стремится достичь (principalissima est omnium circunstantiarum ilia quae attingit actuum ex parte finis). См.: Summa Theologiae, pt. 1–2, ques. 7, art. 1 and 2, vol. 4 (Madrid: В. A. C., 1954), 293–294, 301. Следует отметить, что различие между «практическим знанием» и «научным знанием» провел Майкл Оукшотт. (См.: Michael Oakeshott, Rationalism in Politics [London: Methuen, 1962]. Расширенная версия этой книги была опубликована под названием Rationalism in Politics and Other Essays [Indianapolis: Liberty Press, 1991]; см. в особенности с. 12 и 15. Другая фундаментальная работа: Michael Oakeshott, On Human Conduct [Oxford: Oxford University Press, 1975], переиздано [Oxford: Clarendon Paperbacks, 1991], 23–25, 36, 78–79, 119–121.) Отмеченное Оукшоттом различие соответствует тому, которое Хайек проводит между «рассеянным знанием» и «централизованным знанием», тому, которое усматривает Майкл Поланьи между «неявным знанием» и «артикулированным знанием», а также тому, о котором говорил Мизес применительно к знанию о «единичных событиях» и к знанию о поведении целого «класса явлений». В нижеследующей таблице представлены подходы этих четырех авторов к двум базовым типам знания:
Взаимосвязь между двумя типами знания сложна и плохо изучена. Всякое научное знание (тип В) основано на неявном знании, которое невозможно выразить словами (тип А). Кроме того, научный и технический прогресс (тип В) быстро приводит к новому, более продуктивному и мощному практическому знанию (тип А). Подобно этому, экономическая теория сводится к знанию типа В (научному) о процессах создания и передачи практического знания (тип А). Теперь ясно, почему главным риском для экономической теории как науки Хайек считает опасность того, что, поскольку она состоит из теорий о знании типа А, люди могут начать считать, что, те кто ей занимается («экономисты»), каким-то образом способны получить доступ к конкретному содержанию практического знания типа А. Ученые могут даже совершенно пренебречь специфическим содержанием практического знания, что справедливо критиковал Оукшотт, по мнению которого, самая опасная, преувеличенная и ошибочная версия рационализма состояла бы в «утверждении, что то, что я назвал практическим знанием, вовсе не является знанием, в утверждении, что, строго говоря, любое знание является техническим знанием» (Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays, 15).
43
См. в особенности основополагающие статьи Ф. А. Хайека: “Economics and Knowledge” («Экономическая теория и знание»; 1937) и “The Use of Knowledge in Society” («Использование знания в обществе»; 1945), опубликованные в книге: Hayek F. A. Individualism and Economic Order (Chicago: Henry Regnery, 1972), 35–56, 77–91 [Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф; Начала-фонд. С. 51–71, 89—101]. Важно отметить, что две эти статьи Хайека принадлежат к наиболее значительным текстам по экономической теории. Тем не менее, особенно по первой статье, видно, что когда она была написана, в сознании автора еще имелась некоторая путаница относительно характера экономической теории как науки. Действительно, одно дело – утверждать, что экономическая теория изучает процессы, вовлеченные в передачу практической информации, конкретное содержание которой зависит от обстоятельств, специфических в каждом месте и в каждый момент времени, и совсем другое дело – намекать, как иногда ошибочно делает Хайек, на то, что в силу этого экономическая теория является наукой, имеющее некое эмпирическое содержание. Верно диаметрально противоположное: то, что исследователь в принципе не может получить доступ к рассеянной практической информации, которой владеют объекты его наблюдения, неизбежно делает экономическую теорию по сути своей теоретической, а не эмпирической наукой. Это наука, изучающая форму, а не конкретное содержание предпринимательских процессов, с помощью которых создается и передается практическая информация (процессов, объект которых соответствует фигуре историка или предпринимателя, в зависимости от того, прошлое или будущее находится в фокусе интереса). Израэль Кирцнер в своей выдающейся статье «Хайек, знание и рыночные процессы» (Israel Kirzner, “Hayek, Knowledge and Market Processes,” in Kirzner, Perception, Opportunity and Profit, 13–33), высказывает то же самое критическое замечание в адрес Хайека в несколько ином контексте.
44
Thomas Sowell, Knowledge and Decisions (New York: Basic Books, 1980), 3—44. Однако, мы должны отметить, что, с нашей точки зрения, Соуэлл продолжает находиться под влиянием неоклассической концепции равновесия и пока не понимает роли предпринимательства. По этому поводу см. I. М. Kirzner, “Prices, the Communication of Knowledge and the Discovery Process” in The Political Economy of Freedom: Essays in Honor of F. A. Hayek (Munich: Philosophia Verlag, 1984), 202–203.
45
Без сомнения, Адам Смит осознавал, что практическое знание принципиально является рассеянным или рассредоточенным, когда писал: «Очевидно, что каждый человек, сообразуясь с местными условиями, может гораздо лучше, чем это сделал бы вместо него любой государственный деятель или законодатель, судить о том, к какому именно роду отечественной промышленности приложить свой капитал и продукт какой промышленности может обладать наибольшей стоимостью» (курсив мой. – У. де С.). Однако Смиту не удалось выразить эту идею с полной ясностью (каждый человек не просто знает «гораздо лучше» – он единственный, кто знает в совершенстве свои собственные конкретные обстоятельства). Кроме того, Смит не смог довести свою мысль до ее логического заключения в том, что касается невозможности без опасений вручить центральной власти распоряжение всеми делами людей. (Смит считал, что каждый государственный деятель, который попытается взять на себя такую ответственность, «обременит себя совершенно излишней заботой», но не говорил о том, что он столкнется с логической невозможностью это сделать.) (Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The Glasgow Edition [Indianapolis: Liberty Classics, 1981], IV.2.10 [Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С. 443]). Наглядно проиллюстрировать процессы, посредством которых передается практическая, то есть рассеянная информация, очень сложно; мы решили изобразить их с помощью симпатичных человечков. Надеемся, что наш пиктографический анализ будет с энтузиазмом воспринят экономической наукой будущего.
46
Это различие привилось с тех пор, как его в 1949 г. ввел Гилберт Райл в знаменитой статье «Знание как и знание что» (“Knowing How and Knowing That”), опубликованной в: Gilbert Ryle, The Concept of Mind (London: Hutchinson’s University Library, 1949).
47
Michael Polanyi, The Study of Man (Chicago: University of Chicago Press, 1959), 24–25. Все специалисты по экономической теории обязаны прочитать эту маленькую книжку, настоящий социологический шедевр. Другие важные работы Поланьи: The Logic of Liberty, Personal Knowledge и Knowing and Being; все они опубликованы University of Chicago Press (Chicago, 1951, 1958, и 1969 соответственно [вторая книга переведена на русский язык: ПоланиМ. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985]). Майкл Поланьи (1891–1976) – брат Карла Поланьи (1886–1964) – был очень разносторонним ученым и занимался исследованиями в области химии, философии, политических наук, социологии и экономической теории. Пример с велосипедом можно найти на с. 144 в книге Knowing and Being. Поланьи возводит представление об ограниченных возможностях для вербализации человеческого мышления к некоторым математическим открытиям и, в особенности, к трудам Курта Гёделя. См.: Michael Polanyi, Personal Knowledge, 259 [Полани. Личностное знание. С. 267–268]. В свою очередь, Хайек утверждает, что «теорема Гёделя является частным случаем более общего принципа, справедливого для всех сознательных и, в особенности, для всех рациональных процессов и состоящего в том, что среди их детерминантов всегда должны быть правила, которые невозможно выразить и даже осознать». См.: F. A. Hayek, “Rules, Perception and Intelligibility” in Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics (New York: Simon and Schuster, 1969), 62. Гёдель сформулировал свою теорему в статье: Kurt Godel, “Uber formal unentscheidbare Satze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, ” Monatshef-te fur Mathematik und Physik, no. 38 (1931): 173–198. (английский перевод: Collected Works of Kurt Godel (Oxford: Oxford University Press, 1986), 1: 145–196.
48
Заметим в связи с этим, что мы получили большое удовольствие от великолепной книги Роджера Пенроуза «Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики» (Roger Penrose, The Emperor ‘s New Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics [Oxford: Oxford University Press, 1989]), в которой он несколько раз подробно объясняет, как даже для самых выдающихся ученых важны мысли, которые нельзя выразить в словах (например, см. с. 423–425). Грегорио Мараньон, замечательный испанский врач и эссеист, писал о том же самом много лет назад, пересказывая свой разговор с Бергсоном незадолго до его смерти. Французский мыслитель сказал ему следующее: «Я уверен, что великие открытия Кахаля (Сантьяго Рамон-и-Кахаль – великий нейроанатом и нейрогистолог, лауреат Нобелевской премии) были просто объективным подтверждением фактов, которые его мозг предвидел в качестве практических реалий» (Gregorio Maranon, “Cajaly su Tiempo” in Ohras Completas [Madrid: Espasa Calpe, 1971], 7: 331). В свою очередь, К. Лоренц утверждает, что «любое из важных научных открытий было сначала просто и непосредственно увидено посредством интуитивного гештальт-восприятия, и только потом “доказано”» (Lorenz “The Role of Gestalt Perception in Animal and Human Behaviours” in Aspects of Form [London: L. L. Whyte, 1951], 176).
49
Don Lavoie, Rivalry and Central Planning (Cambridge: Cambridge University Press, 1985). Лавой добавляет, что, если бы издержки можно было бы вычислить объективно, научным способом и единообразно, то принятие экономических решений могло бы сводиться к следованию некоему набору конкретных явно сформулированных правил. Однако, с учетом того, что издержки субъективны и их может знать только действующий человек в контексте каждого конкретного действия, предпринимательская практика не может быть сформулирована в деталях или заменена каким-либо объективным научным критерием. (Ibid., 103–104).
50
Согласно Фоме Аквинскому, creare est aliquid ex nihilo facere (творить – это делать что-то из ничего). См.: Summa Theologiae, pt. 1, ques. 45, art. 1 и сл., vol. 2 (В. А. С., 1948), 740. Мы не можем согласиться с тезисом томистов о том, что творить способен только Бог, поскольку люди также постоянно творят – во всех тех случаях, когда занимаются предпринимательством. Аквинат использует термин ex nihilo в чрезмерно материалистическом смысле, в то время, как мы считаем, что творение ex nihilo происходит всякий раз, когда кто-нибудь замечает или понимает что-то, чего он даже не мог себе представить до этого (Ibid., 756). Представляется, что, несмотря на то, что папа Иоанн Павел II иногда путает понятие «человеческой деятельности» с понятием «труда» (см. также сноску 31), в своей энциклике Laborет Exercens («Совершая труд») он склоняется к нашей интепретации, когда говорит, что человек «продолжает делание Самого Творца Вселенной» (главы 4 и 25 [1981]).
51
Мы считаем, что всякая человеческая деятельность заключает в себе творческий компонент и что нет оснований разделять творческую активность предпринимателя в сфере экономики и творческую активность в других сферах человеческой жизни (в искусстве, общественной жизни и пр.). Нозик ошибается, проводя такое разделение, потому что не понимает, что сущность творчества всегда одна и та же и концепция и характеристики предпринимательства, которые мы сейчас анализируем, относятся к любой человеческой деятельности, вне зависимости от ее типа. См.: Robert Noziclc, The Examined Life (New York: Simon and Schuster, 1989), 40.
52
То, что предпринимательство носит отчетливо творческий характер, и, следовательно, чистые предпринимательские прибыли возникают из ничего, может привести нас к следующему теологическому отступлению: если допустить, что есть Высшее Существо, сотворившее все вещи из ничего и если мы считаем предпринимательство сотворением ex nihilo чистой предпринимательской прибыли, то представляется вполне очевидным, что человек подобен Господу именно тогда, когда занимается чистым предпринимательством! Это означает, что в большей степени, чем homo sapiens (человек разумный), человек есть homo agens (человек действующий) или homo empresario (человек предпринимательский), и что более всего он подобен Господу не тогда, когда он думает, а тогда, когда он действует, то есть видит и открывает новые цели и средства. Мы могли бы даже выстроить целую теорию счастья, которая утверждала бы, что человек счастливее всего тогда, когда он подобен своему Создателю. Иными словами, источником самого большого счастья для человека было бы обнаружить собственные цели и достичь их (что предполагает деятельность и предпринимательство). Тем не менее иногда мы, безусловно, совершаем многочисленные предпринимательские ошибки, и прежде всего они касаются выбора целей. (К счастью, человек не одинок – у него есть советчики, которые могут помочь ему, например, религия и мораль.) Я надеюсь, что профессору Кирцнеру, глубоко религиозному человеку, мое отступление не покажется «кощунственным использованием теологической метафоры» (см.: Israel М. Kirzner, Discovery, Capitalism, and Distributive Justice [Oxford: Basil Blackwell, 1989], 40).
Как мы упоминали в сноске 29, папа Иоанн Павел II в энциклике Laborem Exercens (главы 4 и 25 [1981]), вероятно, склоняется к нашей точке зрения, когда говорит, что человек «продолжает делание Самого Творца Вселенной», подражая ему. Несмотря на это, иногда Иоанн Павел II, видимо, смешивает понятие «человеческой деятельности» с понятием «труда», вводя тем самым несуществующую дихотомию человеческих действий (те, что связаны с «трудом» strict о sensu, и те, что связаны с «капиталом»). Реальной социальной проблемой является не противоречие между «трудом» и «капиталом», а вопрос о том, законно ли систематически осуществлять институциональную агрессию или институциональное насилие против творческой способности, которую человек реализует, когда действует, и о том, какого типа правила и законы должны регулировать деятельность. Кроме того, автор энциклики не понимает, что если он говорит о человеческой деятельности вообще, то не имеет смысла говорить (как делает он в главе 19) о праве получать «справедливое вознаграждение», поскольку у каждого человека, как мы увидим, есть право на весь результат (то есть на прибыль или убыток) его предпринимательского творчества и его деятельности; а если автор пишет про труд в узком смысле, то есть производственный фактор, то этим он теоретически уничтожает любые связанные с ним творческие возможности. Большую помощь в этих размышлениях нам оказала статья Фернандо Морено: Fernando Moreno, “El Trabajo segunJuan Pablo II, ” in Cristianismo, Sociedad Libre у Opcion por los Pobres, ed. Eliodoro Matte Larrain (Chile: Centro de Estudios Publicos, 1988), 395–400. Представление Иоанна Павла II о предпринимательской способности, то есть о творческой человеческой деятельности и ее ключевой роли в жизни общества, или по крайней мере то, что и как он пишет об этом предмете, стало значительно корректнее в его более поздней энциклике Centesimus Annus, где он прямо утверждает, что определяющим фактором является «сам человек, то есть его знания», как научные, так и практические (необходимые для того, чтобы «видеть нужды других и удовлетворять их»). Эти типы знания позволяют людям «развивать свой творческий потенциал», а также быть членами той «сети знаний и отношений», которую представляют собой рынок и общество. В завершение Иоанн Павел II пишет: «Все более явной и насущной становится роль упорядоченного творческого труда и, как составляющей его части – инициативы и предприимчивости». (John Paul II, Centesimus Annus, chap. 4, sections 31, 32, and 33 [1991].) Без сомнения, из энциклики Centesimus Annus следует, что верховный понтифик очень сильно модернизировал свои представления об экономической теории и, с научной точки зрения, сделал большой качественный шаг вперед, тем самым отбросив многие устаревшие элементы предыдущей социальной доктрины Церкви. По своим нынешним, модернизированным взглядам папа даже опережает значительную часть профессиональных экономистов: те группы, которые, оставаясь приверженцами механицизма, не способны учитывать в своих «моделях» фундаментально творческую и динамическую природу предпринимательства. См.: Michael Novak, The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Free Press, 1993).
53
Как мы увидим, когда будем говорить об арбитраже и спекуляции, посредством предпринимательства человеческие существа учатся обуславливать свое поведение, в том числе даже обстоятельствами жизни и нуждами будущих, еще не родившихся людей (межвременная, или интертемпоральная, координация). Более того, этот процесс было бы невозможно воспроизвести, даже если бы люди, повинуясь приказам доброжелательного диктатора или собственному филантропическому желанию помочь человечеству, намеренно попытались бы отрегулировать все ситуации, в которых отсутствует социальная координация, воздерживаясь при этом от поиска и использования возможностей для получения прибыли или выгоды. На самом деле, в отсутствие выгоды или прибыли, которые выступают как стимул, практическая информация, необходимая людям для того, чтобы действовать и координировать ситуации социальной рассогласованности, даже не возникает. (Это не имеет отношения к возможному решению человека использовать свою предпринимательскую прибыль в благотворительных целях после того, как она была получена.) Общество, члены которого посвящали бы большую часть своего времени «намеренной помощи своим собратьям» и не занимались бы предпринимательством, было бы племенным, докапиталистическим обществом, неспособным прокормить даже небольшую часть нынешнего населения Земного шара. Таким образом, теоретически невозможно, чтобы принципы «солидарности» и «альтруизма» могли служить людям руководством к действию в такой системе, как общество: системе, основанной на ряде абстрактных связей человека с многочисленными иными индивидами, которых он, вероятно, никогда в жизни не встретит и о которых он получает только рассеянную информацию и сигналы в виде цен, институтов и содержательных, или материальных, норм. Следовательно, принципы «солидарности» и альтруизма являются племенными атавизмами и могут применяться только в первичных малых группах и между чрезвычайно ограниченным числом участников, каждый из которых хорошо знаком с личными обстоятельствами всех остальных. Хотя и не может быть возражений против того, что многие люди в обществе занимаются различной деятельностью, чтобы удовлетворить собственную более или менее атавистическую или инстинктивную потребность выглядеть альтруистами в глазах ближних, мы имеем право категорически заявить, что с помощью принуждения построить общество на принципах «солидарности» и альтруизма не просто невозможно теоретически: такая попытка разрушит ту цивилизацию, где мы живем, и уничтожит столько ближних и дальних, что потенциальных получателей помощи останется чрезвычайно мало. См.: F. A. Hayelc, The Fatal Conceit, 13 [Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 51].
54
Английский термин calculation (расчет) этимологически восходит к латинскому calx-calcis, одно из значений которого – известковый мел, камушки из которого использовались в греческих и римских счетах абаках. Ниже будет дано более строгое определение экономического расчета (в разделе «Право, деньги и экономический расчет»).
55
Кирцнер придерживается мнения, что предпринимательство позволяет обнаружить и устранить ошибки, которые случаются в обществе и до поры до времени остаются незамеченными. Однако нам такое представление об «ошибках» не кажется полностью удовлетворительным, поскольку оно подразумевает суждение с позиции гипотетического всеведущего существа, знающего обо всех ситуациях рассогласованности, случающихся в обществе. С нашей точки зрения, имеет смысл говорить только о субъективной «ошибке», иными словами, когда действующий человек a posteriori понимает, что он не должен был стремиться к данной цели или что ему не нужно было использовать данные средства, поскольку, действуя, он понес издержки. Он отказался от целей, которые имели для него более высокую ценность, чем те, которых он достиг (это значит, что он понес предпринимательские убытки). Кроме того, мы не должны забывать, что устранение ошибки по Кирцнеру (то есть объективистски) человек обычно воспринимает как удачное и мудрое решение, которое приводит к существенной выгоде или к значительной предпринимательской прибыли. См.: Israel М. Kirzner, “Economics and Error” in Perception, Opportunity and Profit (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 120–137.
56
«Настоящее как текущий период времени есть продолженность условий и возможностей, предоставляющихся для деятельности. Каждый вид деятельности требует особых условий, к которым он должен приспосабливаться относительно искомого результата. Понятие настоящего поэтому различно для разных областей деятельности» (Ludwig von Mises, Human Action, 101 [Мизес. Человеческая деятельность. С. 97]).
57
F. A. Hayelc, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, 12 [Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 54].
58
«Теперь мы рассмотрели три основных естественных закона: о стабильности собственности, о передаче последней посредством согласия и об исполнении обещаний. От строгого соблюдения этих трех законов всецело зависят мир и безопасность человеческого общества, и нет возможности установить хорошие отношения между людьми там, где их не соблюдают. Общество абсолютно необходимо для благоденствия людей, а указанные законы столь же необходимы для поддержания общественного строя» (David Hume, A Treatise of Human Nature, blc. 3, pt. 2, sec. 6 [Oxford: Oxford University Press, 1981]), 526. [Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч. В 2-х т. Т. 1. С. 565].
59
Институтом мы называем любой повторяющийся паттерн, норму или модель поведения, вне зависимости от того, к какой сфере они относятся: лингвистической, экономической, правовой и т. п.
60
Carl Menger, Untersuchungen uber die Methode der Socialwissenschaften und der politischichen Okonomie insbesondere (Leipzig: Duncker Humblot, 1883) [Менгер К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности / / Менгер К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005]. Для обозначения «непреднамеренных последствий индивидуальных действий» Менгер использует термин Unbeabsichtigte Resultante (непреднамеренные результаты). Конкретно Менгер пишет, что социальное явление характеризуется тем, что оно возникает как «непреднамеренный результат (unbeabsichtigte Result ante) индивидуальных (преследующих индивидуальные интересы) человеческих стремлений… как непредвиденный социальный результат индивидуальных идеологических факторов» (р. 182 [с. 392]). См. введение Лоренса Уайта к изданию книги Менгера на английском языке: Carl Menger, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics (New York: New York University Press, 1985), vii-viii, 158 (там находится английский перевод с. 182 немецкого оригинала). См. также статью Хайека: F. A. Hayek, “The Results of Human Action but not of Human Design” in Studies in Philosophy, Politics and Economics, 96—105. Иногда считается, что первым, кто обратил внимание на эти стихийные социальные явления, был Адам Фергюсон. Действительно, на с. 187 его книги «Опыт истории Гражданского общества» (Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (London: T. Caddel in the Strand, 1767) мы читаем: «…целые нации спотыкаются об установления, которые являются результатом человеческих действий, но не представляют собой исполнение какого бы то ни было человеческого замысла» [см.: Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М.: РОССПЭН, 2000. С. 189]. Он прибавляет к этому знаменитую фразу, которую де Рец приписывает Кромвелю: о том, что человек достигает наивысших высот тогда, когда не ведает, куда идет (on пе montait jamais si haut que quand on ne sait pas ой Г on va). Однако Фергюсон, как мы увидим в начале главы 4, следует гораздо более древней традиции, которая восходит через Монтескье, Бернара де Мандевиля и испанских схоластов XVI в. к целой школе классической древнегреческой и древнеримской мысли.
61
Следовательно, мы должны отвергнуть представление о законе Фомы Аквинского, который определяет закон как rationis ordinatio ad honum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata (Summa Theologiae, pt. 1–2, ques. 90, art. 4, vol. 6 [1955], 42; разумное установление ради общего блага, введенное в действие тем, кто печется об общине) и, таким образом, ошибочно считает его сознательным результатом человеческих усилий. В этом смысле Фома Аквинский выступает как провозвестник критикуемого Хайеком «ложного рационализма», предполагая, что посредством разума человек может постичь гораздо больше, чем он способен постичь. Этот мнимый и ненаучный рационализм достигнет пика в эпоху Французской революции, в момент триумфа утилитаризма, а в сфере права – в позитивистских идеях Кёльзена («венская школа» права, или нормативизм) и взглядах Тьебо. См.: F. A. Hayek, “Kinds of Rationalism” in Studies in Philosophy, Politics and Economics, chap. 5, 82–96. Позже Хайек подверг критике Аристотеля за то, что он, хотя и не впал в социалистические крайности, подобно Платону, тем не менее был не в состоянии постичь ни существование стихийного социального порядка, ни сущность идеи развития (Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, 45–47 [Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992. С. 81–84]), и как следствие, стимулировал возникновение того наивного сциентистского течения, которое и в наше время препятствует развитию социальных наук и в значительной степени обессмысливает их.
62
В своей теории происхождения денег Менгер ссылается на деньги как на один из самых ярких и образцовых примеров своей теории возникновения, развития и стихийной эволюции социальных институтов. См.: Carl Menger, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics (New York: New York University Press, 1985), 152 ff. [Менгер К. Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности // Менгер К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 257 сл.]
63
Другой институт, представляющий большой экономический интерес и являющийся примером экономической организации, это то, что в Испании, к несчастью, называют empresa [предприятие], тогда как его следовало бы вслед за англосаксами именовать простым словом firma [firm, фирма], чтобы избежать путаницы между понятием человеческой деятельности, или предпринимательства, и понятием фирмы, которая является просто одним из институтов, пусть и весьма важным, и возникает на рынке из-за того, что, по мнению действующих субъектов, некоторый уровень организации часто помогает им реализовывать свои интересы. Мы полагаем, что имеется целая школа экономической мысли, преувеличивающая важность фирм и компаний в качестве объекта для исследований экономической науки. Фирма – это просто один из многих институтов, возникающих в результате человеческого взаимодействия, и ее возникновение и эволюцию можно понять исключительно с точки зрения изложенной здесь теории предпринимательства. Теоретики фирмы не просто маскируют субъективную природу предпринимательства, создают путаницу в этом вопросе или пренебрегают им, но также склонны объективизировать сферу экономических исследований и неправомерно ограничивать ее фирмой. См., напр.: R. Н. Coase, “The Nature of the Firm” Economica no. 4 (November 1937). Эта статья позже была опубликована в сборнике статей Рональда Коуза: Ronald Coase, The Firm, the Market and the Law (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 33–35 [КоузР. Фирма, рынокиправо. М.: Новое издательство, 2007. С. 37–57]. См. также: A. A. Alchian, “Corporate Management and Property Rights,” in Economic Policy and the Regulations of Corporate Securities (Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1969), 342 ff. Подробный критический разбор взглядов этой школы см.: Israel М. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, 52 ff. [Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. Челябинск: Социум, 2008. С. 55 сл.]. См. также главу 4, сноску 50.
64
Согласно Людвигу фон Мизесу, «экономический расчет является либо оценкой ожидаемого исхода будущего действия, либо установлением последствий прошлого действия» (Mises, Human Action: A Treatise on Economics, 210, 198–231 [Мизес. Человеческая деятельность. С. 200, 188–218]). Мюррей Ротбард, кажется, не понимает, что экономический расчет всегда связан с проблемой создания и передачи рассеянной, эксклюзивной информации, без которой такую оценку провести невозможно. Это становится ясно из того, что он пишет по поводу полемики об экономическом расчете в своей последней книге: Murray N. Rothbard Ludwig von Mises: Scholar, Creator and Hero ([Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 1988], chap. 5, 35–46). Позиция Ротбарда, вероятно, вытекает из его почти что навязчивого желания подчеркивать различие, а не сходство между Мизесом и Хайеком. Хотя утверждение Ротбарда о том, что позиция Хайека иногда интерпретировалась слишком жестко, как будто он затрагивал исключительно проблему, вытекающую из рассеянной природы существующего знания и как если бы проблемы неопределенности и порождения будущего знания, вопросы, особенно значимые для Мизеса, не представляли никаких трудностей, верно, мы полагаем, что обе точки зрения можно легко соединить, потому что они тесно связаны между собой. В следующей главе мы объединим эти две позиции, изложив их соответственно как статический и динамический доводы против возможности экономического расчета при социализме. См. в особенности: Murray N. Rothbard, “The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited”, The Review of Austrian Economics 5, no. 2 (1991): 66. См. также: Joseph T. Salerno, “Ludwig von Mises as Social Rationalist,” Review of Austrian Economics 4 (1990): 36–48; а также: Joseph T. Salerno, “Why Socialist Economy is Impossible: A Postscript to Mises” in Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 1990). См. также конец сноски 16 в главе 4.
65
В течение многих лет студенты в странах Восточной Европы, особенно в бывшем СССР, проводили многие тысячи часов, выписывая цитаты из библиотечных книг и не осознавая, что копиры могли бы облегчить эту работу или полностью избавить их от нее.
Только когда они обнаружили, что на Западе такие машины широко используются, в том числе непосредственно в сфере науки и образования, они стали ощущать потребность в копирах и требовать, чтобы они были доступны. В относительно авторитарных обществах такие случаи более очевидны, чем в западных странах. Однако нам не следует почивать на лаврах или ошибочно полагать, что в западных обществах таких случаев не бывает, поскольку отсутствие обществ с меньшим, чем на Западе, уровнем ограничений, которые могли бы служить нам базой для сравнения, не дает нам понять, как много потеряли западные общества из-за интервенционизма.
66
Первым, кто сформулировал фундаментальный принцип, который анализируется в этой главе, был Сэмюэль Бейли, когда он утверждал, что каждое действие требует «детальных знаний тысячи подробностей, которые будет узнавать только тот, чей интерес в этом состоит, и никто более» (Samuel Bailey, A Defense of Joint-Stock Banks and Country Issues [London: James Ridgeway, 1840], 3). См. также в главе 3 раздел под названием «Социализм как “опиум народа”».
67
Леон Фелипе писал в одном из своих лучших стихотворений:
Nadie fue ayer
ni va hoy
ni ira manana
hacia Dios
por este mismo camino que yo voy.
Para cada hombre
guarda un rayo nuevo de luz el sol
y un camino virgen Dios.
Никто не пришел вчера
И не приходит сегодня
И не придет завтра
К Господу
Тем же путем, что и я.
Для каждого человека
Есть новый луч света у солнца
И новый, нехоженный путь у
Господа.
Leon Felipe, Obras Completas (Buenos Aires: Losada, 1963), 25 (пролог к Собранию сочинений).
68
«Каждый из живущих, даже самый скромный, творит самим фактом своего бытия» (Gregorio Maranon, El Greco у Toledo: Obras Completas [Madrid: Espasa Calpe, 1971], 7: 421).
69
Термин competition (конкуренция) этимологически восходит к латинскому слову cumpetitio (одновременное наличие многочисленных требований на владение одной и той же вещью, которая должна в итоге достаться одному собственнику), состоящему из двух частей: cum – с; и petere – требовать, нападать, искать. Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11th ed.) толкует competition как «соревнование соперников». Итак, конкуренция представляет собой динамический процесс соревнования соперников, а не так называемую «модель совершенной конкуренции», когда многочисленные оференты производят одну и ту же вещь и продают ее по одной и той же цене, что парадоксальным образом означает, что никто ни с кем не конкурирует. См. мою статью: Huerta de Soto, “La crisis del Paradigma Walrasiano,” El Pais, 17 December 1990, 36.
70
См.: Israel M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, 12–13 [Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство. Челябинск: Социум, 2008. С. 14–15], а также: Idem., Discovery and the Capitalist Process, 130–131. Кирцнер подчеркивает, что все, что необходимо для того, чтобы гарантировать конкурентный характер социального процесса – это свобода входа, то есть отсутствие во всех социальных сферах юридических и институциональных ограничений на свободное проявление предпринимательства.
71
Следовательно, предпринимательский процесс порождает своего рода непрерывный социальный «большой взрыв», создающий возможность неограниченного роста знания. По мнению Фрэнка Типлера, профессора математики и физики в Университете Тулейна, предел распространения знания на Земле составляет 1064 бит (это увеличивает физические пределы роста, рассматривавшиеся до сих пор, в 100 млрд раз), и с помощью математики можно доказать, что человеческая цивилизация, освоившая космос, могла бы бесконечно увеличивать свои знания, богатства и население. Типлер делает вывод: «Физики, не знающие абсолютно ничего об экономической теории, написали много ерунды о физических пределах экономического роста. Корректный анализ физических пределов роста возможен только с учетом открытия Хайека, согласно которому экономическая система производит не материальные вещи, а нематериальные знания». См.: Frank J. Tipler, “A Liberal Utopia,” in “A Special Symposium on The Fatal Conceit by F. A. Hayek,” Humane Studies Review 6, no. 2 (winter 1988–1989): 4–5. См. также знаменитую книгу Бэрроу и Типлера: John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford: Oxford University Press, 1986), esp. 658–677.
72
На рис. II-3 представлена базовая ситуация, подобная той, которая описана в тексте. Действительно, А в состоянии предпринять свое действие потому, что предпринимательский акт С сообщает ему, что имеется достаточное количество ресурса R. Впоследствии, в свете действия, предпринятого А, четвертому субъекту D приходит в голову, что он мог бы в свою очередь достичь цели Z, если бы располагал ресурсом S; где достать этот ресурс, D не знает, но он доступен Е, действующему где-то на рынке. Следовательно, вследствие того, что в ходе первого предпринимательского акта была создана новая информация, возникает рассогласованность между D и E, создавая новую возможность извлечения прибыли, которая ожидает кого-нибудь, кто обнаружит и использует ее. Таким образом этот процесс воспроизводится и продолжается.
73
Рис. II-3
О «законе разделения труда» и более общем «законе образования связей» Рикардо см. замечания Мизеса в Human Action, 157–165 [Человеческая деятельность. С. 150–155]. См. также: Ludwig von Mises, Nationalokonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens, The International Carl Menger Library, 2 nd ed. (Munich: PhilosophiaVerlag, 1980), 126–133. (Там Мизес переводит «закон образования связей» как Vergesellschaftungsgesetz.) Как верно замечает Роббинс (Lionel Robbins, Politics and Economics [London: Macmillan, 1963], 141), заслуга Мизеса состоит в том, что он видел, что «закон сравнительных издержек» Рикардо является всего лишь частным случаем более общего закона, «закона образования связей», который объясняет, каким образом сотрудничество между наиболее квалифицированными и наименее квалифицированными людьми выгодно обеим сторонам при условии, что каждый человек совершает предпринимательское открытие и приходит к пониманию, что ему выгодно специализироваться на том виде деятельности, где он имеет большее относительное сравнительное преимущество. Тем не менее даже здесь Мизесу не удается выкорчевать все остатки объективистской позиции, которая господствовала в теории закона разделения труда со времен Адама Смита. Только на с. 709 Human Action [Человеческая деятельность. С. 664] он упоминает умственное разделение труда, которые мы в нашей книге называем «разделением знания» или «разделением информации».
74
Не будем забывать, что наглядно изобразить даже основные особенности социального процесса, двигателем которого является предпринимательство, процесса, который, по мнению Хайека, вероятно, представляет собой самую сложную структуру во Вселенной («Расширенный порядок – это, пожалуй, самая сложно-организованная структура во Вселенной» (Hayek, Fatal Conceit, 127 [Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. С. 218]), почти невозможно. Этот «расширенный порядок общественного сотрудничества», который мы описывали в этой главе, в то же самое время является квинтэссенцией стихийного, эволюционного, абстрактного и незапланированного порядка. Хайек называет его «космосом» и противопоставляет намеренному, конструктивистскому или организованному порядку (таксису). См.: F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1, chap. 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1973), 35–55 [Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 53–72].
75
«Мы становились цивилизованными, поскольку увеличивалась наша численность, а развитие цивилизации в свою очередь делало возможным это увеличение: мы можем быть либо горсткой диких, либо множеством цивилизованных людей. Если бы численность человечества снизилась до той, какая была 10 тысяч лет назад, оно не смогло бы сохранить цивилизацию. В самом деле, даже если бы все накопленное знание сохранилось в библиотеках, людям от этого было бы мало проку: им не удалось бы заполнить все рабочие места, а без этого невозможна ни широкая специализация, ни разделение труда. В случае ядерной катастрофы все имеющееся в книгах знание не избавило бы десять тысяч человек, уцелевших в каком-нибудь тихом месте, от необходимости вернуться к жизни охотников и собирателей» (F. А. Науек, The Fatal Conceit, 133 [Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. С. 229]). Следовательно, тот процесс, который мы описали как великолепный и удивительный большой взрыв, основан на чрезвычайно важном феномене обратной связи: он обеспечивает потребности растущего населения, которое, в свою очередь, питает и создает еще более мощный импульс для социального развития и распространения социального большого взрыва, что заставляет процесс продолжаться. Итак, спустя тысячелетия мы, наконец, в состоянии объяснить научно и рационально библейскую заповедь книги Бытия (Быт 1, 28): «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».
76
Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science (London: Macmillan, 1972), 16. Роббинс, выражающий во вступлении к своей книге признательность Мизесу, демонстрирует, насколько плохо и неточно он усвоил теорию Мизеса. [Эта книга Роббинса была написана в 1932 г. (2-е изд. 1935). Л. фон Мизес впервые в полном виде сформулировал свою теорию в трактате Nationalokonomie, опубликованном в Женеве в 1940 г. – Прим. науч. реЭ.]
77
В результате Мизес воспринимает экономическую теорию как часть более глобальной и более общей науки – общей теории человеческой деятельности, которую он называет праксеологией. См.: Human Action, Part 1, 11—200 [Мизес. Человеческая деятельность. Часть 1. С. 14—134]. В свою очередь, Хайек пишет, что если для новой науки, возникающей по мере расширения наших взглядов на экономическую теорию, «необходимо название, то наиболее подходящим представляется термин “праксеологические” науки… широко применяемый четко его определившим Л. фон Мизесом» (F. A. Hayek, The Counter-Revolution of Science (New York: Free Press of Glencoe, 1952), 209 [Хайек Ф. Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003. С. 44 сн.]).
78
Israel М. Kirzner, Discovery, Capitalism and Distributive Justice, 36 ff. Кирцнер также подробно критикует неудачные попытки свести понятие предпринимательства к методологической схеме равновесия и неоклассической парадигме.
79
Мы придерживаемся мнения, что в широком смысле концепции «общества» и «рынка» совпадают и, таким образом, данное определение «общества» полностью подходит для рынка. Более того, Словарь испанского языка Королевской Академии определяет «рынок» как «собрание людей» [concurrencia de gente], так что Королевская Академия, видимо, разделяет нашу точку зрения и тоже считает «общество» и «рынок» синонимами.
80
Экономическая наука должна сконцентрироваться именно на изучении описанного выше социального процесса. Хайек считает, что главная цель экономической теории – анализ того, как стихийный социальный порядок позволяет нам использовать преимущества огромного объема практической информации, которая не доступна в консолидированной форме, а рассеяна в умах миллионов индивидов. Он придерживается мнения, что экономическая теория должна изучать динамический процесс, посредством которого обнаруживается и передается информация, процесс, постоянно приводящийся в движение предпринимательством, который стремится корректировать и координировать индивидуальные планы и тем самым делает возможной жизнь в обществе. Это и только это является фундаментальной проблемой экономической теории, и, соответственно, Хайек чрезвычайно критически относится к исследованиям равновесия. Он считает, что они не представляют научного интереса, поскольку основаны на презумпции того, что вся информация дана и, следовательно, фундаментальная проблема экономической теории уже решена. См.: Hayelc, “Economics and Knowledge” и “The Use of Knowledge in Society” in Individualism and Economic Order, 51 и 91 [ «Экономическая теория и знание» и «Использование знания в обществе» в кн.: Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф; Начала-фонд, 2000. С. 66 и 101].