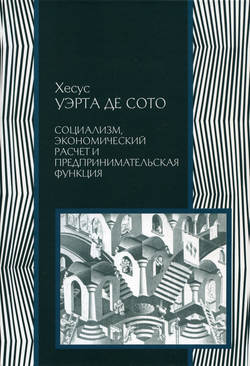Читать книгу Социализм: экономический расчет и предпринимательская функция - Хесус Уэрта де Сото, Эрнандо де Сото - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава IV Людвиг фон Мизес и начало спора об экономическом расчете
1. Контекст
ОглавлениеТо, что социализм является интеллектуальным заблуждением и, следовательно, теоретически и практически невозможен, становится очевидно, с точки зрения истории экономической мысли, только в результате осознания, что общество и рынок функционируют как стихийный порядок, возникающий из постоянного взаимодействия друг с другом миллионов людей. Хотя тому представлению об обществе, которое мы излагали в двух предыдущих главах, более двух тысяч лет[146], его судьба была непростой, поскольку оно находилось в постоянном конфликте с оправдывающим систематическое принуждение и насилие конструктивистским рационализмом, к которому почти неумолимо интуитивно склоняется разум человека. От древнегреческого kosmos, естественного или стихийного порядка, созданного независимо от сознательной воли человека, через значительную часть проверенной временем римской правовой традиции[147] и через более близкие к нам по времени открытия Мандевиля, Юма, Адама Смита и Менгера, к Мизесу, Хайеку и другим современным либеральным мыслителям ведет длинная дорога, часто поворачивавшая в обратном направлении и на многих этапах маршрута полностью скрытая «черным приливом» сциентизма.
Главная идея, на которой построена наша критика социализма, состоит в том, что ни один человек и ни одна группа людей не могут получить информацию или знания, необходимые для того, чтобы организовать и координировать общество с помощью приказов и принуждения. Эта идея естественно следует из концепции общества как стихийного порядка. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, хотя эта концепция была подробно сформулирована совсем недавно, по крайней мере в эмбриональной форме люди отстаивали ее очень давно. Например, Цицерон рассказывает нам, что Катон считал римскую правовую систему превосходящей все остальные потому, что она «была создана умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо… никогда не было такого одаренного человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом»[148].
Много веков спустя, развивая эту идею, Монтескье и Тюрго высказали мысль, имеющую еще более прямое отношение к тому, что нас интересует. Они сочли противоречивым мнение, что государство одновременно способно посвящать усилия и крупным проектам, и всем мелким подробностям их организации[149]. Чуть более ста лет спустя, в 1854 г., Госсен повторил эту мысль почти дословно и стал первым, кто использовал ее для критики коммунистической системы. Госсен пришел к заключению, что запланированная коммунистами центральная власть, цель которой состоит в принудительном распределении разных типов труда и вознаграждения за него, вскоре обнаружит, что взяла на себя задачу, непосильную для отдельно взятого человека[150]. Через двадцать лет Альберт Шеффле, непосредственный предшественник Менгера на кафедре экономической теории Венского университета, показал, что невозможно представить себе, чтобы центральный орган планирования смог успешно (и в количественном, и в качественном отношении) размещать общественные ресурсы без имитации системы определения цен, свойственной рыночным процессам[151]. Вконце столетия Уолтер Бэджхот[152], проницательно отметив, что первобытный, нецивилизованный человек не умел даже приблизительно оценивать издержки и выгоды, сделал из этого вывод, что во всех промышленных обществах ведение расчетов в денежных единицах необходимо для оценки производственных издержек.
Далее нам следует упомянуть о работах Вильфредо Парето. Влияние Парето на спор об экономическом расчете при социализме было противоречивым. Оно было негативным в той степени, в какой Парето был сосредоточен на математическом анализе экономического равновесия', подхода, предполагающего, что вся информация, необходимая для достижения равновесия, доступна с самого начала. Этот подход породил мнение – которое позже развивал Бароне, а за ним повторяли ad nauseam многие экономисты, – что проблему экономического расчета в социалистических экономиках можно разрешить математическими методами, точно также, как она была описана и решена экономистами – авторами модели математического равновесия применительно к рыночной экономике. Тем не менее мы должны отметить, что ни Парето, ни Бароне не несут ответственности за ту некорректную интерпретацию, о которой мы только что упомянули, потому что оба исследователя специально оговаривали, что соответствующую систему уравнений нельзя решить, не располагая информацией, которую предоставляет рынок. В частности, в 1897 г. Парето утверждал в связи с системой уравнений, описывающей состояние равновесия: «Практическая сторона вопроса не находится во власти алгебраического анализа… В этом случае роли переменились бы и не математика пришла бы на помощь политэкономии, а политэкономия – математике. Иными словами, если бы все эти уравнения были действительно известны, то единственным способом их решить было бы наблюдение за практическими решениями, которые предоставляет рынок»[153]. Парето явным образом отрицает саму возможность получить информацию, необходимую для создания системы уравнений, одновременно касаясь сопутствующей проблемы: алгебраической невозможности на практике решить систему уравнений, формально описывающую равновесие.
Вслед за Парето, Энрико Бароне в знаменитой статье 1908 г., посвященной рассмотрению коллективистского государства в русле идей Парето, явным образом подтверждает, что даже если было бы можно преодолеть практические сложности алгебраического характера, связанные с решением вышеописанной системы уравнений (что не является теоретически невозможным), то все равно немыслимо (и, соответственно, теоретически невозможно) было бы получить информацию, необходимую для определения технических коэффициентов для этой системы уравнений[154].
Несмотря на эти ясные (хотя и немногочисленные) предостережения, мы начали с того, что оценили роль Парето и Бароне как противоречивую. Действительно, хотя оба этих автора ссылаются на практические препятствия, не позволяющие решить соответствующую систему уравнений, а также упоминают о том, что получить информацию, необходимую для описания равновесия, теоретически невозможно, создавая новую научную парадигму в экономической теории, парадигму, основанную на использовании математических методов для описания модели равновесия (по крайней мере, в формальных рамках), они неизбежно оказываются вынуждены предположить, что, по крайней мере в этих формальных рамках необходимая информация доступна. Поэтому, несмотря на сомнения, которые мимоходом выражали Парето и Бароне, очень многие их последователи до сих пор не в состоянии понять, что математический анализ равновесия имеет в лучшем случае герменевтическую или интерпретативную ценность, которая ни на йоту не увеличивает шансов теоретического решения задачи, с которой сталкивается любой орган власти, стремящийся получить практическую информацию, необходимую для принудительного планирования и координирования жизни общества.
Первым, кто написал статью о неразрешимой экономической проблеме, с которой должно столкнуться коллективистское общество, был голандский экономист Николас Пирсон[155]. Статья Пирсона особенно достойна похвалы с учетом того, что она была написана в 1902 г. Пирсон считает, что проблема ценности вообще и, в частности, проблема, возникающая относительно любого человеческого действия в свете необходимости оценки целей и средств, неотделима от природы человека, и в силу этого будет существовать вечно и не будет устранена с созданием социалистической системы. Кроме того, Пирсон упоминает о больших препятствиях, возникающих для оценки и расчета при отсутствии цен, а также критикует те неуклюжие планы практического установления коммунизма, которые существовали на тот момент, и, в особенности, экономический расчет в рабочих часах. Однако, несмотря на все эти существенные замечания, Пирсон ограничился лишь блестящими догадками и не смог точно описать проблему, которую составляет рассеянный характер практической информации, постоянно возникающей и передающейся на рынке; впервые эту проблему четко проанализировал и объяснил Мизес[156].
Незадолго до Мизеса наличие этой фундаментальной экономической проблемы почувствовал Визер, когда в 1914 г. писал, что в экономике рассредоточенная деятельность миллионов людей гораздо более результативна, чем централизованная организация сверху, поскольку последняя «не в состоянии быть в курсе бесчисленных возможностей»[157].
Вслед за Визером, немецкий социолог Макс Вебер в своем opus magnum, «Хозяйство и общество», опубликованном посмертно в 1922 г. после длительного периода издательской подготовки, прямо обращается к экономическим проблемам, которые воспоследуют в случае попытки воплотить социализм в жизнь. В частности, Вебер отмечает, что расчеты натурой, предлагавшиеся некоторыми социалистами, не могут считаться разумным решением этих проблем. Действительно, Вебер специально подчеркивает, что сохранение и эффективное использование капитала может быть обеспечено только в обществе, основанном на добровольном обмене и использовании денег, и что из-за потерь и уничтожения экономических ресурсов, которые будут вызваны социалистической системой (в отсутствие разумного экономического расчета), невозможно будет даже поддерживать тот уровень населения, который имелся в наиболее густонаселенных районах на момент ее установления[158]. У нас нет оснований не верить Веберу, когда в сноске он пишет, что узнал о новаторской статье Мизеса только тогда, когда книга уже была сдана в печать.
Наконец, мы должны упомянуть русского профессора Бориса Бруцкуса, работы которого тесно связаны с трудами Макса Вебера и Мизеса. В начале 20-х годов Бруцкус занимался практическими проблемами, возникшими в связи с установлением коммунизма в Советской России, что привело его к выводам, очень похожим на выводы Мизеса и Вебера; он даже прямо утверждал, что экономический расчет в обществах с централизованным планированием и отсутствием рыночных цен теоретически невозможен[159].
Итак, мы перечислили наиболее значительные работы, которые составляют предысторию спора о невозможности экономического расчета в социалистических экономиках. Их объединяет неполнота и интуитивность восприятия главной проблемы социализма, которую мы подоробно проанализировали в предыдущей главе и которая состоит в теоретической невозможности для центрального планового органа получить практическую информацию, необходимую для того, чтобы организовать общество. Кроме того, ни одна из этих работ не пробудила теоретиков социализма от летаргии, в которой они пребывали, в лучших марксистских традициях ограничиваясь критикой капиталистической системы и оставляя вне поля зрения фундаментальный вопрос о том, как собственно, должен функционировать социализм. Только Каутский, уязвленный упомянутой выше статьей Пирсона, осмелился нарушить молчаливое согласие, царившее на этот счет среди марксистов, и попытался описать будущую организацию социалистического общества, несмотря на то, что этим он лишь продемонстрировал свое абсолютное непонимание важнейшей экономической проблемы, поднятой Пирсоном[160]. После этого представляющая интерес социалистическая аналитика появилась только в ответ на основополагающий текст Мизеса. Единственным исключением был Отто Нейрат[161], в 1919 г. опубликовавший книгу, где он утверждал, будто бы события Первой мировой войны «доказали», что имеется возможность централизованного планирования in natura. Именно книга Нейрата вызвала острую реакцию Мизеса в форме прочитанной им в 1919 г. лекции, которая легла в основание знаковой статьи, опубликованной весной следующего, 1920 г.[162]
146
Прекрасный исторический обзор представлений об обществе как о стихийном порядке можно найти в статье F. A. Hayek, “Dr. Bernard Mandeville” in F. A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 249–266.
147
В двух предыдущих главах мы стремились показать тесную связь между нашей концепцией общества и материальным правом, то есть набором абстрактных норм, которые в равной степени применяются ко всем людям. Только рамка, заданная законом, понимаемым в этом смысле, делает возможными предпринимательство и человеческую деятельность, а значит, непрерывное порождение и распространение рассеянной информации, которым характеризуется развитие цивилизации. Соответственно, тот факт, что выдающиеся классические авторы, писавшие о римском праве, внесли свой вклад в ту философскую традицию, которую мы обсуждаем, не является чистым совпадением.
148
“Nostra autemres publicanonunius esset ingenio, sedmultorum, nec una hominis vita, sed aliquod constitutum saeculis et aetatibus, nam neque ullum ingenium tantum extitisse dicebat, ut, quem res nulla fugeret, quisquam aliquando fuisset, neque cuneta ingenia conlata in unum tantum posse uno tempore providere, ut omnia complecte-rentur sine rerum usu ac vetustate”. – Marcus Tullius Cicero, De Re Publica, II, 1–2 (Cambridge, Massachusetts: The Loeb Classical Library, 1961), 111–112. Английский перевод принадлежит Бруно Леони и цитируется по: Bruno Leoni, Freedom and the Law, expanded 3rd ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 1991; lsted. 1961, 2nded. 1972) [Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008] [русск. пер. по изд.: Марк Туллий Цицерон. Диалоги. М.: Научно-издательский центр «Ладомир» – Наука, 1994]). Книга Леони поразительна со всех точек зрения, не только потому, что в ней показан параллелизм между рынком и обычным правом, с одной стороны, и позитивным законодательством и социализмом – с другой, но и потому, что Леони – первый юрист, который понял, что тезис Людвига фон Мизеса о невозможности экономического расчета при социализме – это просто «частный случай более общего утверждения о том, что ни один законодатель не смог бы самостоятельно, без постоянного сотрудничества со всеми людьми, которых это касается, установить правила, регулирующие реальное поведение каждого человека в тех бесконечных отношениях, которые связывают каждого с каждым. Никакие опросы общественного мнения, никакие референдумы, никакие консультации не смогут обеспечить законодателям возможность устанавливать эти правила, точно так же, как аналогичная процедура не смогла дать директорам в плановой экономике возможность обнаружить, какими будут спрос и предложение всех товаров и услуг. Реальное поведение людей состоит в том, что они постоянно приспосабливаются к меняющимся условиям. Более того, реальное поведение людей не следует путать с их мнениями, полученными, например, в результате социологических опросов; это не более разумно, чем отождествление словесного выражения желаний потребителей с “реальным” спросом на рынке» (Bruno Leoni, Freedom and the Law, 20 [Леони Б. Свобода и закон. С. 34] [курсив мой. – У. де С.]). О Бруно Леони, который в 1950 г. создал авторитетный журнал В Politico, см.: Omaggio а Bruno Leoni, ed. Pasquale Scaramozzino (Milan: A. Giuffre, 1969) и Peter H. Aranson, “Bruno Leoni in Retrospect, ” Harvard Journal of Law and Public Policy (summer 1988). Леони, как и Поланьи, был разносторонним человеком; он активно занимался правом, бизнесом, высшим образованием, архитектурой, музыкой и лингвистикой. В ночь на 21 ноября 1967 г. он трагически погиб; его убил один из арендаторов, с которого он пытался взыскать арендную плату. Ему было 54 года.
149
Действительно, Монтескье писал в «Духе законов» (1748): «Поэтому-то Цицерон и сказал: “Я не допускаю, чтобы один и тот же народ был одновременно и властелином, и торгашом вселенной”. В самом деле, в противном случае надо было бы допустить, что каждый человек в этом государстве и даже все государство в целом были бы всегда поглощены одновременно великими замыслами и мелочными делишками; но одно противоречит другому» (Montesquieu, De L’Esprit de Lois, part 4, book 20, ch. 6, p. 350 in Oeuvres Completes: Avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servant, LaHarpe, etc. (Paris: ChezFermin Didot Freres Libraires, 1843) [Монтескье III. Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 283]); A. R. J. Turgot, “Eloge de Gournay” (1759) in Oeuvres, vol. 1 (Paris: Guillaumin, 1844), 275, 288 [См.: Тюрго A. P. Ж. Похвальное слово Венсану де Гурне // Тюрго А. Р. Ж. Избранные экономические произведения. М.: Изд-во соц. – эк. лит., 1961].
150
Hermann Heinrich Gossen, Entwicklung der Gesetze des Menschlichen Verkehrs und der daraus Fliessenden Regeln fur Menschliches Handeln (Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1854), 231. «Darum wiirde denn die von Kommunisten projectierte Zentralbehorde zur Verteilung der verschiedenen Ar-beiten sehr bald die Erfahrung machen, dass sie sich eine Aufgabe gestellt habe, deren Losung die Krafte einzelner Menschen weit tibersteigt». Рудольф Блисс сделал замечательный перевод Госсена на английский язык: Hermann Heinrich Gossen, The Laws of Human Relations and the Rules of Human Action Derived Therefrom (Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1983). Приведенный выше текст находится на с. 255 английского издания: «Следовательно, центральная власть – запланированная коммунистами для распределения различных типов труда и вознаграждения – вскоре обнаружит, что она поставила себе задачу, далеко превосходящуюю возможности любого индивида» (курсив мой. – У. де С.). В третьем немецком издании книги Госсена (Berlin: R.L. Praga, 1927) имеется написанная Ф. А. Хайеком обширная вводная статья, в которой Хайек доказывает, что Госсен был предтечей скорее математической школы Вальраса и Джевонса, чем австрийской школы в строгом смысле этого слова. Недавно эта статья переведена на английский Ральфом Райко и опубликована в третьем томе собраний сочинений Хайека: The Trend of Economic Thinking: Essays on Political Economists and Economic History, vol. 3 of The Collected Works of F. A. Hayek (London: Routledge, 1991), 352–371. Именно в этом контексте следует воспринимать письмо Карла Менгера Леону Вальрасу от 27 января 1887 г., где Менгер пишет, что имеется лишь несколько пунктов, по которым он согласен с Госсеном, и ни один из них не является существенным. («Nur in einigen Punkten, nicht aber in den entscheidenden Fragen zwischen uns Ubereinstimmung, bez. Ahnlichkeit der Auffassung».) См.: William Jaffe, Correspondence of Leon Walras and Related Papers, vol. 2 (Amsterdam: North-Holland, 1965), 176, letter no. 765.
151
Die Quintessenz des Sozialismus, 18th ed. (Gotha: F. A. Perthes, 1919), 51–52 (lsted. 1874). Собственно, Менгер возглавил кафедру экономической теории, когда она оказалась вакантной после неожиданного назначения Шеффле министром торговли в феврале 1871 года. О несомненном влиянии, которое наименее зараженный историцизмом сектор немецкой школы экономической теории до Менгера оказал на некоторые его ключевые работы, см. интересную статью: Eric W. Streissler, “The Influence of German Economics on the Work of Menger and Marshall” in Carl Menger and His Legacy in Economics, ed. Bruce J. Caldwell, Annual Supplement to vol. 22 of History of Political Economy (Durham: Dulce University Press, 1990), 31–68. Подробный критический разбор книги Шеффле о социализме дал Эдвард Стэнли Робертсон в статье: Edward Stanley Robertson, “The Impracticability of Socialism” in A Plea for Liberty: An Argument against Socialism and Socialistic Legislation, Consisting of an Introduction by Herbert Spencer and Essays by Various Writers, ed. Thomas Mackay; 1891, reprint 1981 (Indianapolis: Liberty Classics), 35–79.
152
Walter Bagehot, Economic Studies (London: Longmans Green, 1898), 54–58. (Имеется также современное издание [Clifton, New Jersey: Kelley, 1973].)
153
Мы приводим здесь, ввиду его чрезвычайной важности, целиком раздел 217 главы 2 книги Парето Manuel D’Economie Politique, в издании Droz, Geneva, 1966, pp. 233–234: «Условия экономического равновесия, которые мы перечислили, дают нам общее представление об этом равновесии. Чтобы узнать, что представляют собой определенного рода феномены, мы должны были изучить их проявления; чтобы узнать, что такое экономическое равновесие, мы должны исследовать, каким образом оно было определено. Заметим, впрочем, что процесс определения этого ни в коем случае не имеет целью численный расчет цен. Выберем гипотезу, которая в наибольшей степени благоприятствует такому расчету; предположим, что, преодолев все трудности, мы узнали данные нашей задачи, и что мы знаем все полезности (ophelimites) всех товаров для каждого человека, все детали производства товаров и т. п. Совершенно очевидно, что эта гипотеза абсурдна – но и она еще не дает нам практической возможности для решения этой задачи. Мы видели, что в случае 100 человек и 700 товаров имелось 70 699 условий (на самом деле здесь мы пренебрегли многими обстоятельствами, в реальности их было бы гораздо больше); таким образом, нам следовало бы решить систему из 70 699 уравнений. Это превосходит возможности алгебраического анализа и превзошло бы их еще больше, если принять во внимание баснословное число уравнений для населения численностью 40 млн человек и нескольких тысяч наименований товаров. В этих случаях роли переменились бы: и не математика пришла бы на помощь политэкономии, а политэкономия – математике. Иными словами, если бы можно было действительно узнать все эти уравнения, то единственным доступным для человеческого разума способом их решения было бы следование тому практическому решению, которое дает рынок» (курсив мой. – У. де С.). Существует английский перевод Энн Швир под названием Manual of Political Economy (New York: Augustus M. Kelley, 1971). См. перевод цитаты в тексте в разделе 171. [Между английским переводом и французским оригиналом есть мелкие различия, отраженные в русском переводе. – Перев.]
154
Enrico Barone, “II Ministro della Produzione nello Stato Colletivista, ” Giornale degli Economisti (Sept.-Oct. 1908), английский перевод Ф. А. Хайека: “The Ministry of Production in the Collectivist State,” in Collectivist Economic Planning, ed. F.A. Hayek (Clifton: Augustus M. Kelley, 1975), appendix A, 245–290. В частности, Энрико Бароне пишет: «Решить уравнения равновесия на бумаге не невозможно. Это огромная – колоссальная – но не невозможная задача. Однако совершенно немыслимо, чтобы можно было экономически априори определить технические коэффициенты… Коллективисты определенно пренебрегают экономической дисперсностью технических коэффициентов…Именно из-за этого априори невозможно вычислить на бумаге уравнения равновесия для максимального коллективного благосостояния» (pp. 287–288). Невозможно себе представить, как после этих прямых заявлений Бароне многие экономисты, в том числе такие знаменитые, как Шумпетер, утверждали, что Бароне решил поставленный Мизесом вопрос о теоретической невозможности социализма. Из текстов этих ошибавшихся экономистов становится понятно, что, во-первых, они не поняли сути вопроса, поставленного Мизесом; во-вторых, они невнимательно читали Бароне и Парето; в-третьих, что презумпция доступности полной информации, которая используется при формальном описании равновесия, – это мираж, способный обмануть даже самые блестящие умы. Бароне (1859–1924) прожил интересную и увлекательную жизнь, где чередовались взлеты и падения; он не только занимался математическими методами в экономике, а был еще журналистом и сценаристом (для своих сценариев полковник Бароне использовал свои обширные познания в военной истории, которую он долго преподавал в центре переподготовки офицеров), активным участником становления итальянского кинематографа. О Бароне см.: Del Vecchio, “L’opera scientifica di Enrico Barone,” Giornale degli Economisti (November 1925) и F. Caffe, “Barone” in The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 1: 195–196.
155
Nicolaas G. Pierson, “Het Waardeproblem in een socialistische Maatschappij, ” опубликовано в голландской газете De Economist vol. 1 (1902): 423–456; перевод на английский Гардинера под названием “The Problem of Value in the Socialist Community, ” chap.
2 of Collectivist Economic Planning, 41–85. Пирсон (1839–1909), который находился под сильным влиянием австрийской школы, был председателем Центрального банка, министром финансов и премьер-министром Голландии. См. увлекательную биографию этого выдающегося голландского экономиста и государственного деятеля, написанную Ван Маарсевееном (J. G. Van Maarseveen; Rotterdam: Erasmus University, 1981), а также статью: Arnold Heertje, “Nicolaas Gerard Pierson” in The New Palgrave: A Dictionary of Economics, 3: 876.
156
Мизес тем не менее великодушно утверждает, что Пирсон «ясно и полностью описал проблему в 1902 г.» (Mises, Socialism, 117 [Мизес. Социализм. С. 91 сн.]). Любопытно, что там же Мизес пишет по поводу Бароне: «Бароне не смог проникнуть в суть проблемы».
157
См. в следующей главе сноску 4.
158
Max Weber, Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978), chap. 2, points 12, 13, 14, pp. 100 ff. [См.: Вебер М. Хозяйство и общество. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008 (готовится к печати).] Особенно важен вывод, который делает Вебер: «Там, где применяется радикальный вариант плановой экономики, следует смириться с неизбежным снижением уровня формальной, счетной рациональности, что вытекает из уничтожения денег и бухгалтерского учета капитала. Этот фундаментальный и в конечном счете неизбежный элемент иррациональности является одним из важнейших источников всех “социальных” проблем и, прежде всего, проблем социализма» (р. 111). Вебер даже ссылается на статью Мизеса (р. 107), отмечая, что он обнаружил ее только тогда, когда рукопись его собственной книги была уже готова; таким образом, оба исследователя пришли к своим открытиям независимо друг от друга. Кроме того, Максу Веберу принадлежит неоспоримая заслуга: он первый показал, что социализм препятствует росту населения. Действительно, Вебер пишет: «Следует серьезно отнестись к тезису о том, что поддержание определенной численности населения в конкретном регионе возможно только на основании верного расчета. В той степени, в какой это верно, возможный уровень национализации будет ограничен необходимостью поддерживать систему эффективных цен». (Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization [New York: The Press of Glencourt, 1964], 184–185.) Согласно нашим агрументам, изложенным в главе 3, при социалистическом режиме разделение знания не в состоянии распространяться и углубляться, так как свободное создание и передача новой практической информации запрещены. В связи с этим появляется необходимость воспроизводить заново огромные объемы информации, и, с учетом ограниченности человеческого ума, это приводит к тому, что единственно возможной становится экономика простого выживания при небольшой численности населения.
159
Первоначально работы Бруцкуса появились по русски в журнале «Экономист» в 1921 и 1922 гг. Позже, в 1928 г., они были переведены на немецкий и опубликованы под названием Die Lehren des Marxismus im Lichte der russischen Revolution (Berlin: H. Sack, 1928); и, наконец, они были переведены на английский и изданы в виде сборника: Boris Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia (London: Routledge, 1935). (Существует переиздание 1982 г.: Hyperion Press, Westport, Connecticut.) В последнее время работы Бруцкуса получили очень высокую оченку, в особенности потому, что ему удалось соединить исторический и теоретический аспекты проблемы, избежав того разрыва между теорией и практикой, который был присущ позднейшим этапам полемики. См.: Peter J. Boettke, The Political Economy of Soviet Socialism (The Formative Years 1918–1928) (Dordrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers, 1990), 30–35, 41–42.
160
Мы имеем в виду лекцию, прочитанную Каутским в Дельфте 24 апреля 1902 г., английский перевод которой был опубликован в 1907 г. под названием The Social Revolution and on the Morrow of the Revolution (London: Twentieth Century Press). Взгляды, близкие позиции Каутского, можно найти у Г. Зульцера: G. Sulzer, Die Zukunft des Sozialismus, Dresden, 1899.
161
Otto Neurath, Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft (Munich: G. D. W. Callwey, 1919). Имеется перевод на английский под названием “Through War Economy to Economy in Kind” in Empiricism and Sociology (Dordrecht, Holland: D. Reidel, 1973). Следует учитывать, что Отто Нейрат был директором баварского Zentralwirtschaftsamt, органа, отвечавшего за план национализации в Баварской советской республике, советском революционном режиме в Баварии, который существовал в Мюнхене весной 1919 г. После поражения революции Нейрата судили, в качестве свидетеля от защиты выступал Макс Вебер. Нейрат умер в 1945 г. Идеи, похожие на идеи Нейрата, высказывал Отто Бауэр в книге: Otto Bauer, Der Weg zum Sozialismus, Vienna, Ignaz Brand, 1919. В этой книге Бауэр, подобно Нейрату, защищает возможность экономического расчета в натуральной форме, то есть без использования денежных единиц. Недавно к работам Нейрата вновь обратился испанский экономист Хуан Мартинес-Альер: Juan Martinez-Alier, Ecological Economics, 2nded. (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 212–218. Нужно отметить, что и Нейрат, и Бауэр более или менее регулярно посещали семинар Бём-Баверка, одним из наиболее активных участников которого до 1913 г. был Людвиг фон Мизес. Если реплики Нейрата в основном сводились к прямолинейной защите марксистской ортодоксии, то другой марксист, Отто Бауэр, был вынужден признать, что марксистская теория ценности неубедительна и что своим «ответом» Бём-Баверку Гильфердинг всего-навсего продемонстрировал собственную неспособность хотя бы осознать проблему. В это время Мизес решил выступить с критическим анализом социализма, основанным на мыслях, которые возникли у него во время войны, когда он служил сначала артиллерийским капитаном на восточном фронте (в Карпатах), а после того, как в 1917 г. перенес тиф – в экономическом управлении министерства обороны Австро-Венгрии (затем – Австрии). См. об этом в его захватывающей интеллектуальной автобиографии: Ludwig von Mises, Notes and Recollections (South Holland,IIIinois: Libertarian Press, 1978), 11,40–41,65—66, 110–111. Так или иначе, взгляды Мизеса на социализм были одним из компонентов той новаторской теоретической концепции, к которой он пришел уже в 1912 г. (Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel [Munich und Leipzig: Duncker und Humblot, 1912] [Мизес Л. фон. Теория денег и средств обращения. Челябинск: Социум, 2008]). Лучшее издание этой книги на английском языке: The Theory of Money and Credit (Liberty Press, 1981). Теория Мизеса объединила субъективную, внутреннюю область (ординальных) индивидуальных оценок и объективную, внешнюю область оценочных цен рынка, выраженных в (кардинальных) денежных единицах. Эти две области соединяются во всех случаях, когда различие в субъективных оценках участников, выраженное в денежной рыночной цене или в денежных единицах, приводит к акту межличностного обмена. Эта цена имеет определенное реальное, количественное выражение и предоставляет предпринимателю ценную информацию для оценки будущего хода событий и принятия решений (то есть для экономического расчета). Таким образом, очевидно, что если свободной человеческой деятельности насильственно препятствуют, то добровольные обмены между людьми происходить не будут, и соединение субъективного, внутреннего мира (ординальных) прямых оценок и объективного, внешнего мира (кардинальных) цен, которое выражается в этих обменах, станет совершенно невозможным. Этой чрезвычайно важной мысли об эволюции и логической связности концепции Мизеса мы обязаны Мюррею Ротбарду: Murray N. Rothbard, “The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited, ” The Review of Austrian Economics 5, no. 3 (1991): 64–65. Однако, мы полагаем, чтоРотбард, стремясь обозначить различия между Хайеком и Мизесом, не осознает, что разрыв открытой Мизесом связи между внутренней сферой субъективных оценок и внешней сферой цен прежде всего ставит проблему, возникающую из-за того, что перестают создаваться и распространяться (существующие и будущие) информация и знание, необходимые для экономического расчета, и что, соответственно, мы можем рассматривать работы Хайека и Мизеса, очевидно и неизбежно различающиеся акцентами и мелкими деталями, в качестве неразличимых по существу элементов одной и той же аргументации, направленной против экономического расчета при социализме: Мизес обращает больше внимания на динамические проблемы, в то время как Хайек, возможно, иногда уделяет больше внимания проблемам, связанным с дисперсностью существующего знания. См. также сноску 44 в главе 2.
162
Существует два прекрасных аналитических обзора «предыстории» спора об экономическом расчете: F.A. Hayek, “Nature and History of the Problem” in Collectivist Economic Planning, 1—40; David Ramsay Steele, “Posing the Problem: the Impossibility of Economic Calculation under Socialism, ” Journal of Libertarian Studies 5, no. 1 (winter 1981): 8—22. Несмотря на процитированные нами тексты, относящиеся к «предыстории» вопроса до Мизеса, как верно отмечает Ротбард (“The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited, ”51), проблема социализма всегда воспринималась в большей степени не как экономическая, а как политическая проблема, связанная со «стимулами». Блестящий пример такого рода наивной критики социализма – книга William Hurrell Malloclc, A Critical Examination of Socialism, впервые изданная в 1908 г. и переизданная в 1990 (New Brunswick: Transaction Publishers).