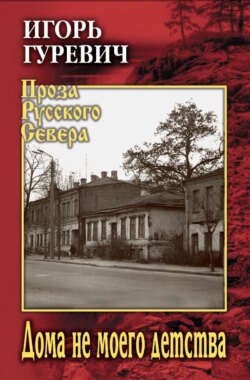Читать книгу Дома не моего детства - Игорь Гуревич - Страница 6
Том 1
Родительский мир
Часть 2
Отцы
Киев, 1936 г. (5696 г.)
Глава 4
Моисей Черняховский. Первомай, 1936 год (9 ияра 5696)
Оглавление1
Изнурительные сны не оставляли Моисея Черняховского с того дня, как родилась младшая дочь. Он уже и не предполагал, что ещё может делать детей. Здоровье непоправимо уходило. Грудь разрывалась от бесконечного кашля. Чахотка, заработанная в окопах Первой мировой, а потом притихшая было на два года германского плена, стала напоминать о себе, едва он вернулся в разграбленное Гражданской войной родное местечко.
За шесть лет, пока он служил и воевал за царя, отрабатывая пресловутый четырёхпроцентный «жидовский призыв», пока отдыхал в плену, батрача на прусского юнкера, ковыряясь в свином навозе, отпиваясь коровьим молоком из щедрых пухлых ручек юнкерши по имени Эльза и отсыпаясь с ней в душистом сене высокой риги после «весёлых дел», пока полгода добирался домой после того, как мировую войну закончили, пока проживал он вот так треть своей недолгой жизни, в России, а значит и в Малороссии, произошли одна за другой «не пойми зачем» две революции, и по просторам страны гуляла уже своя, доморощенная братоубийственная бело-красная война, а по еврейским местечкам ещё и погромы со всех сторон и от всех разноцветных шаровар, фуражек и папах. Родители не выдержали лихолетья и один за другим умерли. Похоронил их младший брат Ицик, один в опустевшем домишке оберегавший родные могилы.
Всего у отца с матерью выживших детей было четверо – три брата и сестра Татьяна. Остальные – то ли пятеро, то ли шестеро детей – умерли ещё в младенчестве. На кладбище все рано ушедшие дети Черняховских покоились под одним надгробием, на котором были высечены имена. У четверых год рождения совпадал с годом смерти. Дети умирали, но Тиква[13] Черняховская не теряла надежду, а муж её Наум молился. И Господь вознаградил их за веру и усердие: через восемь лет от начала их совместного пути родился сын Яков, крепкий и здоровый. На ту пору Тикве исполнилось двадцать два, а Науму целых двадцать четыре года. И это считалось много.
Жили небогато, но и не так чтобы бедствовали. Отец занимался кузнечным ремеслом, мать, как положено, вела хозяйство. Родители мечтали дать детям образование и всеми правдами-неправдами старались вытолкнуть их в ближайший город – всем городам город – Киев. Но если старшему Якову учёба давалась и (как уж отец исхитрился?) паспортная книжка с видом на жительство в Киеве пошла ему впрок – Яков определился в вольнослушатели Киевского политехнического института на химический факультет, то что касается второго выжившего сына, Моисея, учёба для него была как не в коня корм. Монька, так привыкли уличные друзья и родня величать-дразнить его за непоседливость и задиристый характер, рос весёлым и крепким и предпочитал больше работать руками, чем головой, оттого с малолетства и приспособился к отцову ремеслу. Сначала помогал в кузне: то меха раздует, то заготовку клещами прихватит да в жбан с водой охолонуться опустит. А после и сам встал к наковальне. Первую свою кобылу сам подковал уже лет в четырнадцать.
– Мне для работы четырёх классов хедера[14] – за глаза, – отвечал со смехом на приставания Якова, навещавшего родных раз в месяц. – У нас имеется в семье один химик-Менделеев, надо и Вакула чтобы был.
– Ты про Вакулу откуда знаешь? – удивился старший брат.
– Тю! Шо ж, в нашей семье ты только один грамотный? Я Гоголя дюже люблю, а «Вечера…» так и вовсе за лучшую книгу считаю.
– Ну-ну… – ухмыльнулся Яков. – Так уже и черевички есть кому дарить?
– А ну цыть! – вмешался в разговор сыновей отец. – Пусть сперва на эти черевички заработает – люфтменш![15]
– С чего это я люфтменш? – возмутился Монька.
– А кто ты ещё? – отец изобразил удивление и тут же пояснил специально для старшего сына: – У нас тут в соседнем украинском селе молоденькая учительница объявилась. По всему видать, городская, интеллигентная вся из себя – звать-величать Анна Сергеевна. Так наш бубалэ[16] повадился чуть ли не день через день бегать к ней – вроде того она книжки ему даёт почитать.
– А что за книжки? – заинтересовался Яков.
– Сейчас покажу, – оживился Монька.
– А ну, сел! – хлопнул ладонью по столу Наум.
– Папа, шаббат шалом, успокойся! Я не собираюсь коня подковывать, я брату книжку покажу.
– Какая разница! – Наум воздел руки к низкому потолку хаты, где он – в кои веки! – со всеми сыновьями собрался за субботним ужином. Рядом сопел и пыхтел младший Ицик, уплетая приготовленные матерью по случаю рыбные котлетки. Сама жена вышла покормить грудью полугодовалую Таню перед сном. – Господи, вразуми моего сына!
Яков поморщился:
– Папа, и правда – это уже перебор. Свечи горят, Тору почитали – сделали вам с мамой приятное. Что ты ещё хочешь? Да и кстати, книжки в руки брать и читать не запрещается. Папа, в конце концов, ты ж не талмудист-фанатик.
– Вот если бы не Шаббат, если бы не Шаббат, надавал бы я тебе, Янкель, по шее! – И Наум потряс широченной мозолистой ладонью кузнеца. – Сам уже ни во что не веришь и брата тому же хочешь научить?
– Ну почему ж, папа, ни во что не верю? – Яков погладил отца по плечу, будто расстроившегося ребёнка. – Верю. В светлое будущее, в рабочих людей. Умным книжкам тоже верю.
Между тем Монька принёс книгу. Это был Чернышевский, «Что делать?».
– Хорошо, – одобрил старший брат.
2
…Прошлое урывками врывалось в беспокойные сны Моисея Черняховского, и он порой не мог понять, то ли ему это снится, то ли всё происходит на самом деле – настолько яркими и точными были ощущения, звуки, краски. Вот отец возмущается, пытается ругаться с ними в тот давний, забытый субботний вечер – как будто здесь и сейчас, всё явственно: голос отца, его дыхание, домашние запахи. Даже запахи! Хала свежеиспечённая, рыба, молоко – всё, всё вдыхает в себя Моисей и не чувствует при этом бесконечной боли в груди. И свечи на столе – слышно, как потрескивают. Едва-едва, но… он слышит! Он – практически оглохший на оба уха молотобоец киевского завода «Ленинская кузница». Слышит, как в спальне чмокает губами маленькая Таня, наяривая материнскую грудь. А в его груди, где нет боли императорского солдата, заработанной в окопах, в его крепкой груди громко стучит сердце – он слышит! – потому что брат взял в руки и похвалил книгу, которую ему дала любимая женщина со словами: «Прочти. Это хорошая книга. Про настоящую любовь». Вот и брат подтвердил, сказал: «Хорошо!» – словно благословил. «Завтра же поеду к Анне и уговорю… И если надо для этого покреститься… Завтра же к Анне – и всё решим». На лице Моисея возникает счастливая улыбка и… Он просыпается от первого солнечного луча, проклюнувшего полумрак их подвала…
«Сегодня лучший день весны, сегодня Первомай!» – вслед за солнечным лучом ворвался голос старшей дочери Эти. Моисей удивился, как громко, раз даже он расслышал. И открыл глаза. Гинда уже вовсю шоркалась по дому. Этя при полном школьном параде – в белом передничке, пионерском галстуке, с белыми лентами в косах (и где только Гинда достаёт всё это?) стояла посреди комнаты и в полный голос читала заученные стихи: «Оркестры дальние слышны, в цветных флажках трамвай!»
С топчана, вытянув в сторону внучки лицо с закрытыми глазами, блаженно улыбалась старая Ханна. Пришёл новый день. Слава Богу! И этот день был праздником.
Взлетает лёгкий красный шар
Под самый небосклон,
Пылают буйно, как пожар,
Полотнища знамён!
Моисей любил советские праздники. Не то чтобы сильно верил в них, но почитал так же, как субботу, которая вернулась к нему вместе с изнуряющими повторяющимися снами. Поначалу жена сопротивлялась: «Жили без этого – и ничего – ни хорошо, ни плохо. И с этим лучше не станет. А может, ещё и хуже – мало мне обысков, так ещё за Тору причепятся – мало не покажется! – и добавляла: – И это ж каждый раз жрать готовить на всю кодлу». Но неожиданно зятя поддержала старая Ханна: «Муж прав. Надо Бога вспоминать хотя бы в субботу». И Гинда смирилась. Так воцарилась суббота в их доме, и вот уже четыре года в пятничный вечер загорались свечи и семья собиралась за столом. Со временем Гинда втянулась и даже стала находить радость в тихих ужинах при свечах и молитве. В эти минуты словно исчезали, забывались все горести, вся неустроенность и бедность, приправленные сдержанной неприязнью, возникшей между супругами за годы совместной безрадостной жизни.
Да и что сказать? Сошлись они не по большой любви. Геня знала – откуда? – и о большой Монькиной страсти к гойке-учителке, и о прусской юнкерше. Впрочем, что можно было утаить в еврейских местечках, где все родственники? Порой вот так встретишь посреди огромного мира человека, обменяешься парой слов, узнаешь, что он откуда-то из-под Житомира или Киева, из еврейского поселения, так – к маме не ходи! – через пять минут выяснится, что если это не твой троюродный брат, то уж точно чей-нибудь родственник и слышал про тебя кое-что. А это «кое-что» окажется тем, о чём ты сам бы хотел забыть…А как забудешь? Черта оседлости не даст.
…Моисей сполз с высокой железной кровати с заготовленным хмурым выражением лица. Сколько Гинда жила с мужем, никогда не видела его улыбающимся.
– Геня! – как все глухие, Моисей говорил громко, почти кричал. – Дай чистую рубаху – пойду на демонстрацию.
– Демосрант, – проворчала себе под нос Гинда, так чтобы муж не расслышал и не заметил.
«Хороший день, – подумал про себя Моисей. – Двойной праздник: мало что Первое мая, так ещё и пятница»[17]. Вслух сказал:
– Геня, не забудь свечи и халу.
– Да чтоб ты провалился! – не сдержалась та и швырнула на пол мокрую тряпку, которой что-то вытирала с плиты. На улице уже с утра, едва пробудилось солнце, стояло щедрое тепло, а от плиты, на которой Гинда успела сварить картошку к завтраку, шёл жар. Духота наполняла их подвал, несмотря на распахнутое окно.
Между тем Этя стала выкрикивать по новой: «Сегодня лучший день весны, сегодня Первомай!»
– Замовкни уже! Гиникшн! – Гинда оборвала дочь, мешая украинские и еврейские слова.
– Да ты сама сперва разговаривать научись! – огрызнулась Этя, которая училась на одни пятёрки в украинской школе и стеснялась своей безграмотной матери. Хорошо, что она на родительские собрания не ходит. Отец иногда появляется в школе, но он только молчит, потому что всё равно ничего не слышит, да и ляпнуть что-нибудь лишнее стесняется, чтобы не подвести дочь.
Про мать такое не скажешь: уж если она где появлялась, то обязательно вставляла свои пять копеек. Бабушка так и говорила: «Генька! Попридержи язык! Не лезь к людям со своими пятью копейками». На что мать не обижалась, а только пожимала плечами: «А чем это мои пять копеек хуже ихних? Они, может, и читать умеют, да только мозгов у них…» – и дальше мать вставляла такое, что и повторить нельзя. Даром, что ли, все их разговоры с бабушкой были на маме лошн[18], так что Этя, с рождения слыша, прекрасно понимала идиш и разговаривала на нём ничуть не хуже, чем на украинском.
– Мама-бабушка, я побежала! – крикнула Этя и выскочила за дверь. Вскоре мимо окна промелькнули её ноги в белых носках и стоптанных сандаликах.
«Надо ребёнку новую обувку справить», – подумала про себя Гинда и посмотрела на мужа: тот не обратил никакого внимания на дочкины сандалики. Гинда сдержалась, но вслух гаркнула:
– Садись ешь!
– Что ты так орёшь? – даже Моисей удивился. – Я ж ещё не совсем оглох.
Ответом ему была тишина. Что праздник, что не праздник – в семье Черняховских начинался привычный новый день.
3
– Мэйделе мэйн[19], тебе хорошо видно?! – Ицику приходилось кричать, перекрывая нарастающий гул парада и гром маршевой музыки из репродукторов, развешенных вдоль всего Крещатика и похожих на цветы магнолии, только чёрного цвета. Первомайский парад шагал, гремел, пел по Киеву, по всей необъятной и прекрасной Советской стране.
– Хорошо-хорошо! – засмеялась Элла, привычно сидя на плечах любимого дяди, и заболтала ножками в новых сандаликах.
– Осторожно, мэйделе! Так упасть недолго. – Тётя Вера прижала свою узкую, всегда прохладную ладонь к Эллиной спине, а девочка обхватила дядю за шею и, склонившись к его уху, зашептала: «Я люблю тебя. И Веру люблю. Вы мои папа и мама».
– Болтушка ты моя! – Ицик прижал детские ножки к своей груди и по очереди чмокнул каждую пухлую коленку.
– Что она сказала? – прокричала Вера.
– Что любит нас! – крикнул в ответ Ицик.
Подчиняясь жаркой весне, каштаны в этом году расцвели вместе с Первомаем, и над Крещатиком витал обворожительный, ни с чем не сравнимый, одновременно нежный и дерзкий запах главного киевского дерева. От избытка чувств на глазах навернулись слёзы, и Вере захотелось вскинуть руки в небо и прокричать какую-нибудь несусветную глупость, но она лишь прикрыла глаза, прижала руки к груди и громко простонала:
– О-о-о-о…
– Гражданка, вам плохо? – молоденький милиционер в белом парадном кителе, оказавшийся рядом, поддержал Веру под локоть. Неожиданное участие представителя власти добавило ещё больше сентиментальности в сложившуюся картину, и срывающимся в рыдание грудным голосом Вера громко прошептала:
– Нет, мне очень-очень хорошо…
– Что? – не расслышал паренёк.
– Мне хорошо! – прокричала Вера. Слёзы мгновенно, так же как подступили, исчезли, и она рассмеялась.
На плечах мужа звонко засмеялась маленькая Элла. Ицик не выдержал и захохотал следом: «Ну вы, девушки, даёте!»
Милиционер, глядя на них, тоже прыснул со смеху и крикнул:
– Да здравствует Первое мая! Да здравствуют советские люди!
– Ура! – подхватили те, кто стоял рядом, наблюдая за парадом. И вскоре вдоль всего Крещатика, извините, улицы Воровского, эхом прокатилось: «Ура!!!»
4
В столице цветущей Украины
(От корреспондентов «Правды»)
Ясный голубой день. Дома опустели. Все вышли на улицу в ряды демонстрантов.
Такой величественной демонстрации ещё не видела столица Украины. Если можно реально осязать счастье, радость, гордость, веселье, то всё это чувствовалось в людских потоках на улицах Киева.
Ровно в 10 часов утра перед выстроившимися войсками появился командующий военным округом командарм первого ранга тов. Якир. После объезда войск тов. Якир поднимается на трибуну и читает текст торжественного обещания.
Громкоговоритель далеко разносит слова красной присяги, звучащей в устах молодых бойцов грозным предостережением врагам.
Начался торжественный марш войск. Они шли перед правительственной трибуной, перед сотней лучших стахановцев сёл и городов, принимавших вместе с руководителями украинского народа красноармейский парад. На трибуне – тт. Косиор, Постышев, Петровский, Любченко, Якир, Балицкий, Затонский, Н.Н. Попов, Шелехес, Порайко, Сухомлин, Шлихтер, С. Андреев.
Войска ведёт славный сын украинского трудового народа, старый будённовец, начавший свою службу под руководством Маршала Советского Союза тов. Ворошилова в 10‑й армии, награждённый тремя орденами тов. Тимошенко. Первым идёт сводный полк командиров и начсостава гарнизона. За ним в новой форме марширует рота молодых красных лейтенантов, выпущенных двумя лучшими украинскими школами – им. Калинина и им. С. Каменева.
Общий восторг вызывают парашютисты. Жители Киева ещё помнят их по великолепному воздушному десанту во время манёвров.
Пехотные части сменяются конной артиллерией. Рысью несутся упитанные, подобранные по масти кони. Мчатся пулемётные тачанки. Затем улицу занимают мотомеханизированные части. Идут броневики, различные боевые машины и танки. Раздаются возгласы:
– Да здравствует организатор побед социализма наш великий Сталин!
Ликующее громовое «ура» сливается с грохотом машин.
Мотомехчасть выделяется сотнями воспитанных в ней стахановцев. Бывший партизан, причинивший много неприятностей немцам и гетманцам в 1918 году, тов. Шмидт в совершенстве овладел новой техникой. Сегодня многие его ученики удостоились чести самостоятельно вести машины на парад.
В тот момент, когда мотомехчасти заняли улицу Воровского, над городом появились самолёты. Их крылья серебрились на солнце. Они плавно прошли над улицами и площадями. Пилоты, конечно, не слышали восторженного гула приветствий. Но они могли видеть белую фуражку Г.И. Петровского, который восхищённо махал им, и букеты цветов, которые протягивали кверху дети и взрослые.
Около двух часов продолжался парад, демонстрировавший технику, культуру, военное мастерство и безграничную преданность бойцов Красной Армии делу коммунизма.
Гражданскую демонстрацию открыли дети. Сегодня их вышло на улицу свыше 30 тысяч.
Ми горе нiколи не знали,
Нiколи не будемо знати!
С таким плакатом вышли дети, выражая чувства всех ребят социалистической Украины.
Букашки и медведи, мячи и книги, скрипки и «Красные Шапочки», Арктика и субтропики, планёры и палитры – всё, что так увлекает ребят, нашло своё выражение в изумительной детской демонстрации. Тут же инсценировки любимых картин и произведений.
Идут колонны демонстрантов Сталинского района. Перед глазами зрителей проходит детство, юность Сталина, его дореволюционная работа в Закавказье.
Студенты Пищевого института имени Микояна несут гигантские колбасы, консервные коробки, рыбы, калачи. Рабочие краснознамённого «Транссигнала» инсценируют Владимирский централ. На стенах тюрьмы написана песня, музыка для которой недавно составлена композитором Йоришем:
Хочется видеть, как сосны и ели
Дремлют в родимом краю,
Слышать в саду соловьиные трели,
Хочется петь самому…
Петь, не смолкая, про радость и горе,
Сбросить оковы и петь…
Эти слова кажутся перенесёнными через десятилетия революционной борьбы. В них – аромат прошлого революционного подполья. И действительно, эта песня написана в 1906 году узником Владимирского централа, ещё совсем молодым тогда П.П. Постышевым, ныне стоящим тут же на трибуне, восторженно приветствуемым трудящимися столицы.
Издали доносится стройное пение «Полюшка». Это подходит коллектив орденоносного украинского Академического театра оперы и балета. Актёры исполняют пляски – русские, украинские, белорусские, узбекские.
Каждый район соревнуется с другим в стремлении лучше и ярче оформить свои колонны. Сталинский район перелистал удачными инсценировками и картинами всю историю нашей партии. Ленинский район дал картину революционной борьбы в странах капитала и т. д.
Демонстрация закончилась в девятом часу вечера. Около 300 тыс. демонстрантов приняло в ней участие.
Е. Портной, Т. Ильин
«Правда» № 121 (6727), 4 мая 1936 года
5
– Да здравствуют верные сыны и защитники Отечества – наркомвнудельцы!
Из черных репродукторов-магнолий гремели призывы по всему Крещатику.
«Хорошо сказано! И про меня тоже», – подумал Семён, чеканя шаг или, во всяком случае, пытаясь это делать по брусчатке улицы Воровского, бывшего Крещатика. Рядом шагали его товарищи в новой, образца 35‑го года форме. Особую радость Семёну доставляла фуражка – такую ни с какой другой не перепутаешь: тулья василькового цвета с малиновыми кантами, краповый околыш со звездой и чёрный лаковый козырёк. Впрочем, фуражка хоть и являлась самой заметной частью вновь утверждённой формы, всё остальное тоже было – хоть на парад, хоть в театр. А главное – красиво, к месту и убедительно: гимнастёрка тёмно-защитного цвета с двумя накладными карманами и тёмно-синие галифе всё с теми же малиновыми кантами, заправленные в высокие чёрные сапоги. А уж ромбы в малиновых петлицах прямо-таки ключевым аккордом вписывались в ансамбль. Красота, достойная верных сынов и защитников Отечества!
Уж Семён Милькин в этом разбирался: как ни крути – сын портного. Отец в Сёмке души не чаял: готовил к жизни по своим стопам и с малолетства приучал сына с ножницами да иглой управляться, кроить да штопать – и всё такое. Но жизнь распорядилась по-другому…
Отец бы сейчас глянул на сына, почмокал губами, поцокал языком и сказал бы: «Шейн бохер!»[20] Лицо отца всплыло перед мысленным взором Семёна: старший Милькин скорбно смотрел на него и вздыхал. Улыбка невольно сошла с лица Семёна. Он даже скрежетнул зубами и тряхнул головой так, что красивая фуражка чуть не слетела на землю – пришлось придержать рукой.
– Ты чего, Семён?! – крикнул вышагивающий рядом старший лейтенант особого отдела – друг и собутыльник Петька Кравчук.
– Ничего! От избытка чувств! – сориентировался Семён.
– А! – Кравчук понимающе заулыбался. – И то правда. Хороший повод новую форму выгулять. Кстати, звания мы с тобой не обмыли. Ты как?
– Да запросто.
– Завтра ко мне?
– А ты у своей спросил?
– А чего её спрашивать? – удивился Кравчук. – Ты много со своей советуешься?
– И то правда! – в унисон ответил Милькин. И оба рассмеялись.
6
Моисей Черняховский вернулся домой уже затемно. Все спали, намаявшись и нарадовавшись за день. Этя посапывала на узком коротком диванчике возле тёщиного топчана. Старая Ханна то ли спала, то ли так лежала, подсунув ладонь под щёку, не разберёшь: глаза у неё всегда закрыты, а спала старуха так же тихо и неслышно, как бодрствовала. Маленькую Элку, как обычно, забрали к себе за стенку Ицик с Верой.
По дому шоркалась одна Гинда: при слабом свете от приспущенного фитиля керосинки убирала со стола остатки субботнего ужина.
– Ну и что? – с громким шёпотом накинулась на мужа Гинда. – Что-то без тебя с Богом сегодня поговорили!
– Я на демонстрации был, – отмахнулся Моисей.
– Все там были, – не унималась Гинда. – Только все явились к ужину. Вот и брат Веркин с сыновьями приходил: представление детям показывал.
– Смешно?
– Что смешно?
– Смешно, спрашиваю, показывал?
– Как всегда, – пожала плечами Гинда. – Элка смеялась, в ладошки хлопала. Этя тоже несколько раз хихикнула.
– Ну и слава богу! – сказал Моисей и ушёл за занавеску раздеваться ко сну.
– Вот и поговорили. С праздником! – чуть не крикнула в спину мужу Гинда. Но тот не ответил: то ли не расслышал, то ли не захотел.
…Когда жена затихла, отвернувшись к стенке, Моисей всё ещё не мог уснуть. Лежал на спине, подсунув ладони под голову, и разглядывал потолок, ещё и ещё раз вспоминая прошедший день, главным событием в котором стала неожиданная встреча с… Анной…
Теперь-то Моисей понимал, откуда взялись эти навязчивые повторяющиеся сны. Вернее, один и тот же сон: их последний субботний ужин у отца со старшим братом. И каждый раз сон этот обрывался, будто дальше ничего не было. Совсем ничего не было. Даже жизни.
Вот он даёт брату книгу, ту, что Анна ему велела прочитать. Вот отец ворчит на них за то, что Бога не почитают. А он решает, что завтра пойдёт к Анне и предложит ей выйти за него замуж. От этой мысли всё его тело наполняется вожделением, упоительным желанием, сердце радостно ноет – всё как в песне или сказке. С дурацкой улыбкой на лице Моисей засыпает… Но завтра не наступает. Вернее, наступает, но другое, в котором он – почти оглохший, с болью в груди, двумя детьми и терпящей его женой, привычно тянущей на себе воз, в котором он скорее пассажир, чем возница. И всё это хозяйство, которое почему-то называется семьёй, размещается в сыром, тёмном полуподвале. Это и есть его счастье, его жизнь. Так что тот повторяющийся сон, как чуждый аккорд в сложившейся песне – пусть не самой весёлой, не самой напевной, но всё-таки песне, где все эти несбывшиеся мечты-воспоминания нужны как мёртвому припарка. Только голова от них болит и… сердце.
Но сегодня Моисей понял, что всей этой ночной бесконечной истории придёт конец.
7
На Крещатике он встретил Анну. Случайно…
Когда он подошёл к своим с «Красной кузни», собираясь затеряться в общем строю, к нему подлетел вечно жизнерадостный профсоюзный вожак Степаныч из бывших красных то ли партизан, то ли будённовцев, а может, и то и другое сразу. И с ходу заорал. День был сегодня такой, особый: всё вокруг орало – репродукторы на столбах и люди на Крещатике. Иногда людям удавалось перекричать музыку и здравицы, но чаще происходило наоборот.
Впрочем, Моисея Черняховского праздничный гвалт вокруг не раздражал. Напротив, было весело и хорошо, и если кого-то, как обычно, не расслышишь, можно попросить повторить ещё раз. И никто тебе не скажет: «Слух лечи. Чего это я горло драть должен?»
– Миша! Как здорово, что ты пришёл! – орал Степаныч. – У нас кузнец на машину заболел! А ты в самый раз подходишь – лучше замены не сыскать!
– Какой кузнец? – удивился Моисей. – Сегодня ж выходной!
– Так это не всамделишный кузнец! – кричал, разъясняя, председатель профсоюза. – Это роль такая: на грузовике стоять с другими и типа того молотом по наковальне бить. Не на самом деле, а как будто. Молот из папье-маше. А девушки, ну не только девушки, но и женщины, на машине будут тоже ехать и петь: «Мы – кузнецы, и дух наш молод…» В общем, революционную нашу любимую песню будут петь. А мы все, значит, всей нашей «Ленкузней» за грузовиком этим рядами сзади идти будем, ура кричать, флажками, цветами – кому что выдадут – махать…
– Это всё хорошо, – прервал Степаныча Моисей. – Но я тут при чём? Ты мне флажок или цветок дай – и я буду идти и махать.
– Миша, ты что ж такой несознательный?! – возмутился ветеран – будённовец-партизан. – Тебе честь… – он замялся, подбирая слова. – Тебе доверие оказано: представлять наш коллектив со сцены, в смысле с грузовика. На тебя – и на других, конечно, там ещё человек десять показывают, что в песне поётся, у каждого – своя роль – на вас с трибуны смотреть будут, приветствовать. Сам Якир там. И Постышев.
– Ну какое мне доверие, Степаныч? Ты рехнулся, не иначе! Я ж не стахановец даже – у меня больничных из-за лёгких вон сколько. Да и, кстати, мне и так тяжело дышать, а ты меня ещё и махать этим бумажным молотом заставляешь. – И Моисей демонстративно закашлялся.
Но Степаныч был не из робкого десятка. Недаром в Гражданскую шашкой махал:
– В общем, так, товарищ Черняховский, это не просьба, это поручение. И даже не от профсоюза, а от трудового коллектива, трудового народа то есть. А это всё равно что поручение от Родины и партии. Уразумел?
– Уразумел, – вздохнул Моисей. Хоть они и были почти одних лет, Степаныч разве что года на три постарше, но числился в ветеранах и героях, а он, потомственный кузнец, был всего лишь молотобоец из бывших царских солдат, немецких военнопленных, притом ещё даже не передовик социалистического труда. Так что его аргументы против Степанычевых не прокатывали. Радость от праздника куда-то улетучилась, и Моисей понуро побрёл к грузовику с открытыми бортами, где на помосте уже собралась на предстартовую репетицию массовка из самодеятельных артистов. Издалека особенно выделялись девушки: все как на подбор в лёгких белых платьях и косыночках, по-рабочему подвязанных под косами, с красными то ли галстуками, то ли кисейными платками на шеях.
Степаныч сопроводил Моисея до самых подмостков и крикнул:
– Принимайте артиста! Кузнец высшего разряда!
С машины послышались радостные возгласы, и несколько рук протянулись навстречу Моисею.
– Я сам ещё могу! – хмуро буркнул тот и неожиданно легко заскочил на открытый кузов.
– Ух ты! – непроизвольно вскрикнула какая-то женщина. В возгласе чувствовалось явное восхищение. Моисей повернул голову на голос и… замер. Перед ним в белом легком платье, в белой косынке, озарённая майским солнцем, словно видение из его снов, стояла Анна Сергеевна. С первого взгляда Моисею даже показалось, что время никак не отразилось на ней: всё то же молодое лицо, тонкий профиль, серо-зелёные глаза, чуть припухшие манящие губы, стройная молодая фигурка, высокая грудь. Это позднее – было время – он разглядел и морщины у глаз и в уголках губ, и серебряные нити в тёмно-русых волосах, и – даже – скрученные в узлы вены на ногах. А в тот момент он только и смог, что удивлённо выдохнуть:
– Ты?..
– Миша… – беззвучно прошептала Анна. А может, это он не расслышал в шуме и гомоне праздника, лишь догадался по губам. Если бы не окружение, они бы бросились навстречу друг другу. Ситуация не позволила поддаться первому порыву.
Кто-то уже успел сунуть в руки Моисею огромный молот из папье-маше. Молодой паренёк, назвавшийся Сашей и секретарём комсомольской организации, кричал Моисею в самое ухо (видать, ему уже объяснили, что кузнец настоящий и поэтому ни черта толком не слышит):
– Моисей Наумович! Вы не переживайте. Ничего репетировать не надо. Просто бейте молотом по наковальне, – и он пнул настоящую наковальню, установленную на грузовике. – А Колька вроде того будет вам заготовку подавать, – и комсомолец показал на молодого широколицего паренька, голого по пояс, с настоящими кузнечными клещами. Паренёк белозубо улыбался, радуясь жизни.
Моисей слушал и бессознательно кивал, а сам в это время во все глаза смотрел на Анну, нетерпеливо ожидая, когда уже этот молодой вожак закончит свои наставления. Однако Саша не отставал:
– Вы на остальных, Моисей Наумович, внимания не обращайте. – На грузовике, кроме нескольких женщин в белых одеждах, среди которых была и Анна Сергеевна, находилось ещё с десяток юношей и девушек. – Они тоже участвуют в инсценировке. Но ваша роль главная – вы кузнец, вздымаете тяжкий молот и куёте ключи счастья. С той стороны тоже есть кузнец, и у него тоже есть помощник и наковальня. – Только теперь Моисей заметил, что проходящая вдоль всего грузовика от кабины до заднего борта декорация делила кузов пополам. Он попытался разглядеть, что было изображено на фанерных щитах, но вблизи сделать это было трудно, практически невозможно.
Саша поймал взгляд кузнеца и с радостью бросился разъяснять: было видно, какое удовольствие доставляло ему всё происходящее вокруг. Ещё бы! Это был первый Первомай, когда ему, только что назначенному комсоргу завода, поручили организовать молодёжный агитгрузовик. Он и песню подобрал, и инсценировку, и декорацию придумал, и художников привлёк. И даже с женской капеллой «Думка» договорился. Поначалу их руководительница наотрез отказалась: «Зачем мои девочки как идиотки горло драть будут на вашем грузовике? Там и без того музыки и лозунгов хватит – из всех динамиков польются. Нас никто не услышит». – «Услышит! – убеждал Сашка. – Мы запишем ваше исполнение в студии на радиостанции. И когда наша колонна выйдет к трибунам и оттуда прокричат: “Да здравствуют труженики легендарной “Ленинской кузницы”! – из всех репродукторов зазвучит “Мы кузнецы…” в исполнении “Думки”. Что на это скажете?» Старая, тощая, высушенная временем и жизненными тревогами бывшая певичка императорской оперы, а потом баронесса… да неважно теперь, какая баронесса, просто Тамара Спиридоновна, музыкальный директор известной киевской женской капеллы, широко раскрытыми глазами, словно впервые увидела, посмотрела на юного мальчишку, светящегося от энтузиазма и собственной значимости. Подумала: «А что, этот и впрямь сможет» – и согласилась.
«Ух!» – обрадовался Сашка, удивляясь своей везучести и пробивным способностям. Но уже через пять минут после того, как выскочил счастливый от старой заносчивой карги явно из бывших аристократок, Сашка не на шутку испугался: и как же у него получится исполнить обещанное? И со студией договориться, и капеллу записать? А главное, сделать так, чтобы, когда колонна «Ленинской кузницы» поравняется с трибуной, из всех репродукторов вдоль Воровского зазвучало:
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!
Но молодость не умеет отступать, поскольку шкура не драная и морда не битая. Сашка, рождённый уже при советской власти, воспитанный идейно твёрдыми родителями, даже допустить не мог, что хорошее дело не найдёт поддержку у старших товарищей. Так и вышло. Поначалу Сашкино предложение повергло секретаря заводского парткома в шок. «Да ты шо! С глузду зьихав!» – закричал тот на зарвавшегося мальчишку. Но в это время в партком по случаю заглянул старый уважаемый большевик, давно уже пенсионер, но продолжающий работать на почётной должности заводского завхоза. «Остепенись! – одёрнул он секретаря. – Хлопец дело говорит. Давай лучше подготовимся и сходим в горком к первому. Мне почему-то кажется, он поддержит». – «Да, кто ж с нами будет разговаривать?» – предпринял последнюю попытку отговориться секретарь парткома. «А мы что, не коммунисты? Для чего тогда горком, если с нами не разговаривать? – возмутился старый большевик и выдал главный аргумент: – К тому ж я член бюро горкома зазря, что ли?» После этих слов секретарь махнул рукой и сдался.
И старшие товарищи сходили в горком. Неожиданно идея не просто пришлась ко двору, а получила высокую партийную оценку как «замечательная инициатива снизу». Почин ленкузнивцев было рекомендовано распространить на все остальные трудовые коллективы, участвующие в первомайской демонстрации. Теперь каждое большое киевское предприятие должно было пройти перед трибунами под свою песню. Конечно, не к каждому производству легко можно было подобрать такую. Паровозное депо выходило, например, под песню про бронепоезд, который стоял на запасном пути. Киевскому машиностроительному заводу и вовсе было просто шагать на Первомай. Завод назывался «Большевик». Любую революционную песню бери – всё будет кстати. На этот раз решили пройти под любимую «Вихри враждебные»
А что было делать Дарницкому мясокомбинату? Про советскую колбасу песен не было, так же как их не было про мясников. Кто-то особо умный предложил песню «Едут по полю герои, Красной армии герои». На него с удивлением посмотрели: и при чём здесь мясокомбинат? «Так они ж на конях едут!» – пояснил умник. Из конины, конечно, колбасу делали вовсю, но тут уж параллели были какие-то не совсем правильные: сверху могли и не понять. Стали дальше думать – ничего толкового в голову не приходило. Решили привлечь народные массы: стали проводить рабочие собрания в цехах – думайте, товарищи, спасайте честь предприятия! И вот в колбасном цехе к начальнику подошёл лучший мастер Моисей Гуревич:
– У меня жена в капелле «Думка» поёт. Много песен знает. Так она посоветовала взять «Отречёмся от старого мира!».
– Мойша, и где ж ты тут про колбасу слова нашёл? – рассмеялся начальник.
Но Моисей, подготовленный супругой, ничуть не смутился и спокойно ответил:
– Там есть другие слова, подходящие к нам. Сейчас… – и он достал из кармана брюк сложенный вчетверо листок. Ага, вот: «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, // Мы к голодному люду пойдём…» И ещё: «Вставай на врагов, люд голодный…» А мы как раз людей кормим.
– Слушай, в этом что-то есть! – обрадовался начальник. – А кто нам эту песню споёт для праздника?
– Жена сказала, что «Думка» может спеть.
– Так они ж уже с «Кузницей» пойдут – все знают.
– А им зачем с нами идти? Они песню на радио запишут.
– Умно! Пошли к начальству.
Так и нашлась песня для тружеников мясоперерабатывающего производства. Ну а певички из «Думки» получили премию от благодарного руководства комбината в виде полкило докторской колбасы каждой. Руководительнице капеллы достался килограмм…
Потом, после праздничного шествия, секретарю парткома «Ленинской кузницы» вручили грамоту от Киевского горкома за столь нужный почин, украсивший праздник Первого мая, и предложили директору завода выдать парторгу премию в размере среднемесячного заработка. Старому большевику, члену бюро горкома, первый секретарь лично объявил благодарность и вручил именные часы. Комсорга Сашу тоже не забыли: пригласили на заседание заводского парткома и сказали, что он молодец.
И вот после всех этих усилий Первого мая всё могло пойти коту под хвост только из-за того, что… один из кузнецов-артистов – комсомолец Б. – заболел. Вернее, запил. Потому что влюбился, а девушка объявила, что любит другого. Дурацкая история! А главное, случилась она накануне праздника. Ещё вчера утром на работе комсомолец Б. был свеж как огурчик, жизнерадостен и горд доставшимся ему важным поручением сыграть кузнеца на грузовике в инсценировке первомайской песни. Но уже сегодня, Первого мая, – ух! – сдулся, спёкся комсомолец Б. У комсорга Саши натурально случилась истерика. Однако выручил профсоюз в лице незаменимого Степаныча, который нашёл кузнеца. Настоящего! Мрачного, набыченного, но кузнеца. И главное – никуда не сбежит и не заболеет. Лишь бы только ещё согласился с голым торсом молотом на грузовике махать…
8
…А потом они с Анной – Анной Сергеевной – шли по гуляющему вечернему Крещатику. Поначалу к ним пристроилась – или Анна притянула – певичка из капеллы по имени Ривка, статная, высокая, с тугой чёрной косой до пояса. Но втроём, слава богу, они прошли совсем немного: на перекрёстке с улицей Свердлова, бывшей Прорезной, Ривка вскрикнула:
– Ой! Вон и мои, – и замахала рукой коренастому мужчине с маленьким мальчиком на плечах: – Миша! Я здесь! – наспех попрощалась и чуть не бегом поспешила навстречу своим.
– Муж с сыном, – прокомментировала Анна и добавила: – Счастливая.
Последнее можно было и не говорить: без слов видно. Моисей невольно подумал: его жена к нему так не бросится. Но вот почему так грустно вслед Ривке вздохнула Анна?
И, словно отвечая на мысли Моисея, Анна сказала:
– А у меня не сложилось. Как Якова арестовали, так и не сложилось потом ни с кем…
– Какого Якова? – в душе отвергая нехорошую догадку, чуть не крикнул Моисей.
– Какого? Брата твоего. – Анна удивлённо посмотрела на Моисея и осеклась.
Он с ходу остановился, как будто натолкнулся на невидимую преграду, и тоже посмотрел ей в глаза. И они замерли так – друг напротив друга посреди тротуара. А мимо текли, бежали, прогуливались первомайские люди. Некоторые просачивались между ними. Быстрый днепровский вечер наполнял густой синевой небесную высь.
«Господи! – думала про себя Анна. – Столько лет прошло…» Сказать, что она не догадывалась тогда о чувствах юного Моньки, было бы неправдой. Отмахивалась от собственных подозрений – как от навязчивого слепня. Тем более что «младший Черняховский», так между собой с Яковом они называли Моисея, никак не проявлял очевидным образом своих чувств – цветы не дарил, знаки внимания не оказывал. Разве что краснел иногда да умолкал невпопад. Но всё это Анна списывала на юный возраст, природную стеснительность и, если хотите, элементарную необразованность: откуда мог почерпнуть мальчишка с четырьмя классами хедера приёмы обхождения с юными дамами из интеллигентного круга? Он и классику-то русскую начал читать только благодаря знакомству с ней.
Это ведь Яков, узнав, что она по собственной воле напросилась в село детей учить, сперва одобрил поступок как товарищ по партии, а потом попросил:
– Там рядом местечко есть, где все мои живут. Позанимайся, пожалуйста, с моим младшим братом. Хороший парень растёт, рукастый. Но, боюсь, без образования отец из него вырастит лишь кузнеца – в одной руке молот, в другой Талмуд. А у брата есть тяга к прекрасному и голова светлая.
Она с радостью согласилась. Ей так хотелось быть ближе к Яшиной семье! На ту пору их связывала настоящая и, как тогда было принято говорить, свободная любовь. Эсеры – товарищи по революционному делу только приветствовали такой союз, тем более что Аня и Яша не были в этом вопросе единичным примером. Что касается родни, то у Анны её попросту не было. Родители – мелкопоместные дворяне, будто списанные с гоголевских «Старосветских помещиков» – были приёмными: взяли едва народившуюся девочку после того, как её родная мать – дворовая девка то ли Агафья, то ли Аграпина, а может, и вовсе Фрося – повесилась после родов. Говорили, нагуляла от какого-то их дальнего родственника, весёлого гусара, случайно заглянувшего к ним погостить по дороге в полк, расквартированный под Винницей. Вполне обычная, пустячная история – и вспоминать нечего.
Старики в приёмной дочери души не чаяли. Растили, холили, учили. А она их звала «матушка» и «батюшка» и на «вы». Однако ж едва Анна с блеском поступила в Киевский университет – сбылась родительская мечта! – не стало сердечных. Сперва мамушка, а следом, через полгода, и отец ушли на поклон к Царю Небесному. С поместьем их случилось тоже вполне обычное в те времена дело: за долги оно оказалось в собственности у богатого и успешного в делах соседа. Сосед этот – имени вспоминать не хочется даже – стал звать Анну замуж. Сперва вроде как пожалел сироту, приехавшую в родные пенаты уладить похоронные и наследные дела. Но получил отказ и стал проявлять настойчивость, переходящую в грубые приставания с угрозами и запугиванием. Анна плакала и скрывалась от навязчивого ухажёра в соседней усадебке у таких же, как её приёмные родители, обедневших стареньких помещиков. Но те сами боялись грозного богатея, носившего почётный титул князя. Старик-сосед дрожащим голосом сообщал нерадивому жениху, приезжавшему в роскошной карете, запряжённой парой белых рысаков, о том, что Анны у них нет, и где она, они не знают. А потом на пару со своей столь же благонравной и перепуганной насмерть супругой упрашивал Анну поскорее уезжать в Киев от греха подальше.
В конце концов Анна так и поступила. Не помогло: настойчивый, огромного роста и толщины князь, вступивший в уверенный возраст пятидесятилетнего «властелина жизни», нашёл её и там. Но… но к тому времени Анна уже состояла в эсеровской ячейке и была знакома с высоким, черноволосым, кудрявым и широкоплечим красавцем Яковом Черняховским. И так вышло, что два мужчины встретились и немножко поговорили. После чего князь, даже не попрощавшись с Анной, навсегда исчез из её жизни. А через пару недель нарочный вручил Анне письмо, скреплённое родовой княжеской печатью. В письме князь кратко, без обиняков объявлял, что отзывает все свои обязательства и чтобы Анна не смела на него рассчитывать ни в каком виде, а он благодарит Всевышнего, который открыл ему глаза и отвёл от него беду оказаться мужем революционерки и «жидовской подстилки». Анна прочитала, пожала плечами, письмо порвала и выбросила, решив, что Яше показывать его вовсе ни к чему.
…В тот день она ждала, что Яша, как обычно, после субботнего ужина со своими заедет к ней, но всё случилось по-другому…
…Всякий раз сон Моисея обрывался на этом месте: они заканчивают субботний ужин, и он ложится спать с мыслью о том, что завтра во что бы то ни стало признается Анне в своих чувствах и позовёт замуж. Но едва мать успела всё убрать со стола, как на пороге хаты зашумели, затопали, заколотили в дверь – сапожищами, не иначе, – так что чуть не выбили: «Открывай!»
Моисей спросонья плохо различал всю эту толпу жандармов в синих мундирах. По дому метались тени – мать стояла в одной ночной рубахе, подняв повыше зажжённую керосиновую лампу. «Поставь на стол! – прикрикнул на неё отец. – Иди к себе. Нечего тут отсвечивать!» В спальне, разбуженная шумом, громко заверещала маленькая Таня. Ицик выглянул было из-за занавески, но мать чуть не за шиворот развернула его и увела с собой.
И только Яков, неведомо когда успевший одеться, а может, и не ложился вовсе, улыбался. А потом сказал: «Господа жандармы, довольно страху нагонять. За мной пришли, так наберитесь терпения: соберу вещи – и пойдём». – «А вы тут ехидством не занимайтесь, господин Черняховский, или, как вас там кличут, товарищ Кудря. Какие у вас здесь вещи? Налегке небось к родителям заглянули. Или, может, какие непотребные книжки для братца привезли? Так мы мигом обыск организуем. Вот и разрешение на это имеется», – вступил в разговор до того тихо стоявший у порога серый невзрачный человек в штатском.
Яшка кивнул ему, как старому знакомому: «И то ваша правда, – и назвал по имени-отчеству, Моисею теперь и не вспомнить. – В этот дом, господин следователь, ничего лишнего с собой я не вожу. И вас с компанией, надо заметить, никак не ждал». – «Ну-ну, Яков Наумович, так уж и не ждали? А встречаете при полном параде. Видно, что не ложились баиньки», – возразил следователь. Можно было подумать, что эти двое просто встретились по-дружески для доброй беседы. Сейчас ещё обменяются парой-другой любезностей и к столу за трапезу сядут. Видать, весь этот несуразный диалог произвёл умиротворяющее впечатление и на старого Черняховского, так что он вдруг предложил:
– Может, чаю?
– Чаю? – восхищенно всплеснул руками следователь и захохотал. – Чаю! Ай да кузнец Наум, ай да инородец-иноходец, иудеюшка правоверный – или православный? Да нет, какой же ты православный – это ж не про ваше племя паршивое. – И вдруг разозлился, стал себя распалять, повышая голос до крика, переходя на визг. – Это вы, поганцы, ваша Иудина кровь губит Российскую империю! Расплодили, нарожали, навыращивали революционеров-бомбометателей! Народ простой ядом инакомыслия отравляете! На власть, на императора… – и он захлебнулся в собственном крике, – на самодержца российского руку поднимаете! Моя бы воля, я бы вас с корнем…
И тут Яшка захлопал в ладоши:
– Браво! Браво, господин следователь!
– Убрать! – заверещал человек в штатском, и два высоких жандарма при ружьях вытолкали старшего брата взашей. Следом метнулся следователь, последним неспешно вышел старый толстый жандарм с пышными седыми усами – будто срисованный с лубочной картинки. Во тьме послышалось конское ржание. Потом вскрик: «На!» – и будто что-то тяжёлое упало на землю. «Брат!» – понял Моисей и бросился к дверям. Но отец будто клещами схватил его за плечо:
– Оставь! Это Яшина дорога…
9
…Моисей и Анна стояли посреди первомайского Крещатика и смотрели в глаза друг другу. Он вдруг вспомнил, что тогда тоже был май. И даже не просто май – первое мая одна тысяча девятьсот девятого. И тоже была суббота, как сегодня. И была долгая ночь, которую он никак не мог досмотреть в своём сне спустя четверть века, чтобы теперь, когда… вот так… разом…
Мысли в голове Моисея стали путаться, потому что он вдруг понял ещё одну очевидную вещь: не было никакой любви со стороны Анны, и брат об этом прекрасно знал, подыгрывая ему. «Зачем?!» Ответа не было. Моисей почувствовал горечь во рту. Ему, взрослому, старому, можно сказать, мужику, повидавшему во всех видах и жизнь, и смерть, хотелось заплакать, как ребёнку, у которого отняли любимую игрушку.
Анна, словно понимая, что сейчас происходит у него в душе, взяла Моисея под руку и не спеша, поглаживая свободной рукой по плечу, повела по Крещатику среди гуляющей толпы. Она боялась, что он сейчас развернётся и уйдёт навсегда, а ей так надо было узнать о… Яше.
Они прошли молча почти квартал, когда Анна наконец-то решилась и спросила:
– А что с Яковом?
Моисей усмехнулся, крутнул головой, словно отгоняя от себя наваждение:
– Якова в Сибирь сослали. Там он и остался потом. Женился. Четверо детей у него. А недавно письмо пришло – он с братом нашим самым младшим связь поддерживает. Арестовали его…
– За что?! – вскрикнула Анна и остановилась, испуганно прикрыв рот рукой. Моисей невольно залюбовался: на мгновение показалось, что перед ним сейчас та двадцатилетняя красавица, которую он так ни разу и не назвал Аннушкой… Разве что в наивных юношеских мечтах…
– Да кто ж его знает, – спокойно ответил Моисей. – Может, как врага народа, а может, за то, что тогда, при царе, никого стоящего взорвать не сумел.
– Как ты можешь?! – закричала на него Анна.
Моисей ничего не ответил, пожал плечами. Он вдруг увидел, какая она стала с годами старая и некрасивая: лицо всё в морщинах, нервные складки в уголках губ. И – по всему видать – одиноко живёт, бездетно, без ласки мужской. Впрочем, сама о том обмолвилась.
– Рад был повстречаться. С праздником. Береги…те себя, – сказал, как глухой, будто чеканя каждую букву, и ушёл не оборачиваясь.
А она ещё долго стояла вот так посреди тротуара. Мимо по одному и парами тёк, спешил, прогуливался праздничный народ. Первомай затихал. Над Киевом загорались ночные звёзды…
10
На следующий день после завтрака Ицик предложил брату:
– Мойша, давай выйдем на улицу, подышим.
Они поднялись во двор.
– Вот, – сказал Ицик и протянул конверт.
– Что это? – отпрянул Моисей. Не любил он писем – ни писать, ни получать. Что-то тревожное было в этих бумажных прямоугольниках в марках и печатях.
– Это письмо из Сибири.
– И что там? – спросил Моисей, по-прежнему не прикасаясь к конверту.
Ицик помолчал, глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, и внятно, чуть не по складам прочитал самое главное, то ли для того, чтобы глуховатый Моисей всё хорошо расслышал, то ли чтобы самому ещё раз осознать прочитанное:
– «Ицхак, пишу тебе за брата. Ты знаешь, что его арестовали как врага народа. Сначала держали в городской тюрьме. Потом отвезли на пересылку. Оттуда должны были куда-то в Казахстан везти. Или на Таймыр, не знаю. По дороге он умер. Нам пришло извещение. Написано: по состоянию здоровья. Вот и всё. Нет больше Яши. Даст Бог, когда-нибудь свидимся с тобой и Мишей, познакомимся лично. А пока говорить больше нечего. Помяните там брата, раба Божьего. Ваша невестка Мария. Дети тоже передают поклон. Пишите, если что».
Моисея будто кувалдой ударили в грудь. Дыхание перехватило.
– Какого «раба»? – переспросил, повторяя про себя только что услышанное и не понимая до конца.
– Жена его писала. Она русская, крещёная, – пояснил Ицик.
– Значит, Яков…
– Может, и Яша.
– Да я не про то… Я про… Умер?
– Таким не шутят. И потом жена как-никак…
– Пойдём в синагогу, – сказал Моисей.
– Зачем?
– Пусть помянут как положено.
– Я не пойду, – отказался Ицик. И добавил: – К чему всё это?
– Значит, я сам схожу, – упёрся Моисей. – Да, а письмо порви и выбрось. Или ещё лучше сожги. Мало ли что.
И он пошёл через двор не оборачиваясь. До последней из оставшихся в городе полулегальной синагоги, даже и не синагоги вовсе – так, квартиры для миньяна[21] – было пешком не меньше часа.
13
Надежда (ивр.).
14
Хедер – базовая начальная школа для евреев-ашкенази.
15
Мечтатель (идиш).
16
Пай-мальчик (идиш).
17
1 мая 1936 г. была пятница, а вечер пятницы – начало субботы.
18
Мамин язык (идиш).
19
Девочка моя (идиш).
20
Красивый парень (идиш).
21
Миньян – община не менее чем из десяти взрослых евреев-мужчин старше тринадцати лет и одного дня, собирающаяся для общественного богослужения и для ряда религиозных обрядов в иудаизме, в том числе для поминальной молитвы.