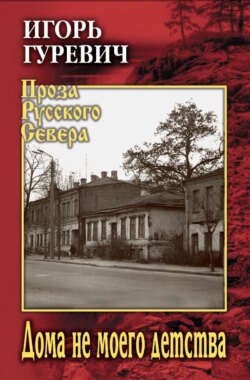Читать книгу Дома не моего детства - Игорь Гуревич - Страница 7
Том 1
Родительский мир
Часть 2
Отцы
Киев, 1936 г. (5696 г.)
Глава 5
Семён Милькин. Зима – весна – лето 1936 года (тевет – сиван 5696)
Оглавление1
Вот уже полгода, как Владлена Чос работала продавщицей в главном продуктовом магазине Киева – гастрономе на Крещатике, то есть на Воровского. Это была блатная работа, и досталась она Владке…
А зачем много говорить? Досталась и досталась – кому какое дело? Конечно, может, которые особо щепетильные, и попрекнут, мол, через одно место добыла. Так ведь если дал Господь ей такое хорошее место в придачу к миловидному лицу, крутым бёдрам и высокой груди, так дурой надо быть набитой, чтобы такой благостью не воспользоваться. А на ней ведь ещё и сын: растёт хлопец не по дням, а по часам, вот уже и ест как заправский мужик. А одежонку какую-никакую справить, обувку там? Не будет же её красивое дитё ходить словно оборванец какой. Статный мужчина растёт, крепкий, высокий: девчонки на него заглядываются, даром что двенадцать годков всего. В отцову породу. Отец у Кольки хоть и поганец был ещё тот, зато красавец писаный – кудри смоляные, глаза карие да кулак пудовый. Ну и по мужской части тоже был хорош.
Владлена толк понимала: плохонького да хлипенького до тела своего не допускала. Хотя и говорила ей Ривка-соседка: «Ты, Владка, не всякий раз на лицо да на хозяйство смотри. Хоть иногда послушай, что да как мужчина говорит. Голова-то – она для жизни полезней, чем кулаки пудовые да глотка лужёная». Владлена Ривку, конечно, уважала и нередко прислушивалась к её советам. Но в этих вопросах – уж извините! Ривке хорошо разглагольствовать: вон ей какой муж достался, всё при нём – и красивый, и сильный, и, что особенно ценно, молчун, каких свет не видывал. На Ривку свою молится и молчит, она, бывало, только бровью поведёт, а он уж подорвался с места – любую прихоть исполнит. Где ж таких, как Мойша, сыскать? Разве что среди евреев: говорят, у них принято женщину почитать, вон даже родство по матери ведут. Владлене, конечно, такой подход был невдомёк, вроде как не по правилам – всё же мужик в доме хозяин, не баба. Но женское сердце откликалось, и иной раз в мечтах своих представляла она себе этакого сладкого, губастого, с тёмным волооким взглядом и ласкового – такого ласкового, что, как представит Владлена, аж застонет – так невмоготу сделается! А что нос горбатый и висит, как слива, над верхней губой, так от этого ещё слаще: Владлена даже глаза зажмуривала, чтобы видение удержать.
И до того, видать, домечталась, что Господь распознал её желания и организовал ей встречу с Семёном-красавцем. И всё при нём, как представляла: и кудри, и глаза, и губы пухлые, ну и нос в придачу. А уж в любовных утехах какой нежный да трепетный! И на слова не скупится, и на подарки. Но другой раз, если к тому расположение у обоих будет, и силу проявить может – жёсткую, мужскую, даже бешеную. Повалит её в исступлении на кровать и возьмёт насильно. А ей только того и надо. В общем, счастье ей привалило, по-другому не скажешь.
А что Сёмушка её женат, так это кому что на роду написано. Ему вот было написано жениться на своей крови. Какие тут могут быть претензии? Она ведь и сама не без греха, а чтобы нос от удачи, выпавшей ей, воротить – она ж не дура безмозглая. Тем более что в другой раз Боженька и разозлиться может за такую неблагодарность. Так что пользуйся, баба, да радуйся. Сколько твоего веку тебе ещё осталось?
2
Владлена как подумает, что Семёна в тот день могло мимо неё пронести, так вся холодным потом обольётся и крестится, если наедине с собой окажется, а потом Господа благодарит и опять крестится: «Спасибо тебе, Боже! За хлеб наш насущный, за радость дарёную!» Бестолково молится, неумело, но зато искренне. А так, чтобы по всем правилам – где ж научишься, коль времена нынче такие? Хорошо ещё, Бога не забыли вовсе. Вот и Сёмушка её с Богом тоже в ладах. Правда, со своим. Но какая разница. Откуда она знает? А он ей сам как-то сказал, что по субботам у них близких встреч не будет, потому как это грех. Владлена сразу всё поняла: про субботу она всё и так знала, на соседей своих насмотрелась, да хоть на тех же Ривку с Мойшей. Да и кто ж на Украине про субботу не знал: столько лет-веков бок о бок с евреями тёрлись. В общем, кому что на роду написано…
Да и какая разница: им и без субботы приключений хватало. Семён по городу передвигался куда хотел и когда хотел – работа такая: быть всегда начеку и контру всякую вылавливать, врагов народа разоблачать. Они ведь с ним так и познакомились. Владлена тогда в столовой посудомойкой работала. И вот в один ясный зимний день к ним нагрянули товарищи чекисты – и сразу в кабинет к директрисе. Потом только крик из-за закрытой двери был слышен – слов не различить, но понятно, что угрозы и грубости всякие. Голос мужской, зычный. Столовую, ясное дело, прикрыли, немногих посетителей, которые на тот момент оказались, повыгоняли. На выходе поставили двух молодцев – никого не выпускать и не впускать.
Работники от нечего делать у директорского кабинета собрались. Владлена стала к мужскому голосу за дверью прислушиваться. И он ей понравился: зычный такой, напористый. Грозный и в то же время мягкий голос. Тот, кто этим голосом управлял, представлялся Владлене прямо артистом. Вот только что громыхал на всю ивановскую, а вот притих, на громкий шёпот перешёл. И вдруг вкрадчивым таким стал, завораживающим. Владлена, не вникая в слова – всё равно не различить, – ощутила себя словно в театре, в котором была всего один раз в жизни, оттого, может, и запомнила навсегда. Сам сюжет она пересказать бы не смогла, но главных героев описывала так, что случайные её слушатели прямо-таки проникались историей двух влюблённых, когда один, который чёрный, мужчина из-за ревности придушил свою белокурую избранницу. А если кто из слушателей замечал Владлене, что какие ж это влюблённые, коли мужик бабу придушил, то она, ничуть не смущаясь, одёргивала такого умника: «Много ты понимаешь! Настоящая любовь, она такая и есть – страстная до смертоубийства!»
…Дверь директорского кабинета распахнулась, и на пороге появился невысокий, но статный мужичок – волосы кудрявые, чёрные как смоль, и глаза будто уголья горят из-под насупленных бровей. Тогда выпал редкий для зимнего Киева морозный день и притом солнечный, такой яркий, что просторный кабинет был просто залит золотым светом, вливающимся через огромное, в полстены, окно. И потому смуглый красавец возник в дверном проёме будто в золотом плаще и шлеме, как архангел. Казалось, ещё мгновение – и он поднимет над головой огненный меч. А чекист на самом деле схватился правой рукой за кобуру. Владлена невольно вскрикнула: до того ясно представилась ей картина высшего чуда из давно забытых детских воспоминаний, когда грамотный её дед читал копошащейся в хате мелюзге Библию, будто сказку.
Мужичок в дверях не вздрогнув посмотрел прямо в глаза Владлене и снисходительно усмехнулся, хорошо понимая, какое впечатление он, старший лейтенант госбезопасности Семён Милькин, производит на граждан, а в особенности на гражданок. Всё в нём было под стать времени и обстоятельствам: внешность, форма и удачливость. Ещё какая! Сёма как вырвался из черты оседлости в Киев на волне революции, так сразу и пошёл в правильном направлении. Сначала типография. Потом рабфак, а там вступил в комсомол и по призыву – в ЧК. Была только одна загвоздочка – фамилия уж больно дурашливая. Даже Сонька-жена поначалу умилялась, гладила по жёстким кудрям и сюсюкала: «Милочка ты мой ненаглядный!»
Какой он ей, к чёрту, «милочка», когда он что ни на есть чекист, настоящий, с рождения! Он ведь как попал в органы, так сразу это понял. Брался за любое дело, даже самое что ни на есть неприятное. И морду, если требовалось, вражине мог любому разукрасить так, что мама родная не узнает. У него не забалуешь! Он никому никаких скидок не давал, не даёт и – клянётся! – не даст. За примерами далеко ходить не надо: та же Сонькина сестра Гинда – что ни говори, а родня, к тому же именно она сосватала за него Соньку. Но кто посмеет сказать, что Семён Милькин попустительствует родне? Зря он, что ли, раз за разом к Геньке с обыском наведывается: и её воспитывает, от худшего удерживает, и государству польза, а главное – в конторе видят, что для него долг перед Родиной и партией превыше всех родственных связей. Да что там сестра жены! Будь то хоть отец с матерью… Правда, они – может, и к лучшему – давным-давно, ещё до великих перемен, этот мир покинули.
Сёмке едва шестнадцать стукнуло, когда попала их семья под раздачу – погром. Родителей избили до бесчувствия, сестёр двоих – девок на выданье – снасильничали, а потом всех с хатой вместе сожгли…
3
А Сёмка в живых остался: любовь спасла. Он тогда, несмотря на своё малолетство, повадился к бобылихе вдовой – двадцатилетней Матрёне – захаживать. Она сама рано замуж была выдана или продана, чуть не с семнадцати годков. Муж ейный был знатный пьяница, шикер[22], притом довольно старый – к полста, не меньше. Откуда он в еврейском поселении появился, никто не помнил. Но в один прекрасный день у шинка с утра раннего был обнаружен спящий мужик в рванье, с колтуном вместо бороды, проспиртованный настолько, что перебивал запах из самого питейного заведения. Благо на ту пору июль стоял, жаркий да ласковый, как положено на Украине. Люди вокруг оказались добрые: пожалели, приютили, отмыли. Между тем мужичок оказался небестолковый – с руками золотыми. И не только плотничать умел. Рассказывали, даже машинку «Зингер» местечковому портному отремонтировал так, что она стала шить лучше новой, а за работу взял всего ничего – как положено – штоф самогонки. Да и тот не сам опорожнил: собрал в округе самых известных собутыльников – и среди евреев любителей выпить хватало – и оприходовали они штоф всем кагалом. После того случая плотника в местечке ещё больше зауважали и любовно прозвали «шикер Кулибин».
Однажды Кулибин пропал и вновь появился через пару месяцев с молодой женой, с виду совсем девчонкой, и деньгами. Как про деньги узнали? Да всё просто: Кулибин сразу же хату покосившуюся, оставшуюся после одинокой старой Рахили, прикупил. Хата на то время почему-то оказалась то ли в доверенности, то ли вовсе в собственности у хазана[23] Иоськи Левита.
Этот кантор был та ещё штучка! Так хорошо распевал в местной синагоге да на похоронах, при этом и на свадьбах, и по другим праздничным случаям не гнушался, что к нему все в округе, да что там округе, во всём местечке благоволили. Особенно старухи: такой был сладкоголосый, чернокудрый да волоокий, с ресницами длиннющими и густыми, будто крылья вороньи. Бабки шептались: «Красивый, как сатана, а поёт, как ангел. И сердцем добрый, ласковый». Сёмкин отец про хазана частенько говаривал: «Ангел хренов! Хитрее любого самого хитрого из нас: без мыла в одно место влезет, а через голову выйдет, да так, что ты сам его словами думать и говорить станешь». И то была чистая правда: у Левита в доверенности или в собственности оказывались хаты, сарайки, телеги и даже золотишко. Так что если кому что в местечке надо было срочно-пресрочно раздобыть, будь то вещь значительная или вещица малая, можно было не раздумывая посылать к хазану: если у него и не найдётся нужное, то уж точно он подскажет, где это взять можно.
В общем, прикупил Кулибин хату у Иоськи Левита, подправил, крышу подлатал и стал жить с молодой женой. А через год отправился к праотцам: был обнаружен утром у любимого им шинка после двухнедельного запоя, с тем же колтуном в бороде и запахом, как от разлитой цистерны самогона. В общем, всё один в один, как в день его явления местечковому люду. С той только разницей, что на этот раз на дворе стоял самый что ни на есть распрекрасный январь, и не просто, а Крещенье, славящееся что в Сибири, что в Малороссии крепкими морозами.
Матрёна мужа похоронила, попечалилась, отметила сорок дней и стала жить молодой вдовой. Чрез какое-то время местечковые обнаружили, как по утрам, ещё петухи не пропели, с задворок Матрёниной хаты то одна, то другая мужская фигура прошмыгивает. Жёны, у которых мужья проворные, с кобелиной повадкой, не на шутку напряглись. Даже, говорят, делегацию к Матрёне на беседу отправляли. Однако ничего у них не вышло. Если бы молодая вдова в отказ пошла да в оборону с ухватом встала, то местные Сары да Соньки точно бы ей губёшки выдернули и глаза зашили.
Но Матрёна оказалась бабой ушлой, даром что красивая, с длинной русой косой: она всех в дом пригласила, будто ждала гостей. Дипкурьеры даже поначалу растерялись, вошли в хату робея: как положено, в красном углу икона, под иконой лампадка зажжена, а посреди хаты стол большой, весь яствами заставлен, и посредине не один, а целых три штофа с мутной влагой до краёв наполненные стоят. Матрёна гостьям в пол кланяется и к столу приглашает: «Проходите, помяните моего мужа дорогого. Сегодня как раз день, когда мы в церкви с ним венчались» – и с этими словами крестится на икону. Местечковый «женсовет» полным составом сочувственно вздыхает и покорно направляется к столу: как тут откажешь?..
Потом у Матрёны допоздна свет горел и песни раздавались: к тому времени уж весна вовсю развернулась, так что окна были открыты, тем более что столько разгорячённых баб собралось вместе. И песни, надо заметить, звучали всё больше хоровые, разудалые, не чета молитвенным завываниям местечкового кантора. «Распрягайте, хлопци, коней!» – орал на всю округу добрый десяток женских голосов. Мужья прислушивались и недоумевали: то ли пора жён вызволять из ведьминого притона, то ли самим бежать куда глаза глядят, пока благоверные, разгорячённые коллективным пением, не вернулись с кольями и ухватами. Ведь кто ж его знает, что там под самогоночку из бабьей солидарности эта сучка наплела-напела их любимым, Богом данным. Это мужик подшофе опасен, а баба, да ещё в ревности, просто невыносима – пострашнее Конца Времён будет.
Однако обошлось. Жёны вернулись за полночь, и из тех домов, откуда ходили к Матрёне посланницы, всю ночь слышались скрипы панцирных кроватей да бабьи стоны вкупе с мужскими рыками. А поутру жёнки не сговариваясь выскочили на крылечки бодрые да весёлые и захлопотали во дворе, занялись хозяйством, чтобы в доме не шуметь, пока их благоверные отсыпались после многотрудной работы…
В ту ночь, когда приключился погром, Семён, утомлённый любовными утехами, спал богатырским сном в объятиях Матрёны и даже на шум да крики не проснулся. А когда узнал о случившемся, то больше испугался за себя, чем расстроился, и прибежал обратно к Матрёне, стал уговаривать её уехать с ним в Киев:
– У меня деньги есть. Отец во дворе зарыл, я знал где и достал. Вот, – и вытащил из-за пазухи ассигнации, аккуратно завёрнутые в кусок белой холстины.
В ответ та закричала на него:
– Да ты что! Одурел со всем с перепугу? Похоронить надо по-божески…
А Семён и вправду озверел:
– Зачем?! Зачем хоронить – все и так сгорели! Община всё сделает как надо, зря, что ли, отец в синагогу деньги пачками носил?! А и не похоронят даже если, что мне-то тут делать? Ждать нового погрома? По-божески… Да где этот Бог хренов?! Отец ни одну субботу не пропускал, ни один праздник, ни одни похороны. И уж если нужен миньян, то как без отца? У всех дела могли быть, отговорки. А он – нет: молиться – это святое! Он эту Тору свою до дыр затёр, пальцы слюнявя. И мать, и сёстры – дуры, туда же. Козы бестолковые! Вот и получили, что просили, жизнь вечную. Они ж почему не побежали из дома, как другие, когда погром начался? Отец, видишь ли, в это время молился: облачался в талес и шатался из стороны в сторону, как болванчик, – ничего не слышу, ничего не вижу. А эти дуры сидели тихо, ждали: нельзя беспокоить – отец молится за их счастье. Что, вымолил?! Чего уставилась? Я бы всё едино сбежал отсюда. Это же не жизнь, это убожество и… – Семён весь задёргался, замахал руками, не находя нужных слов.
Матрёна смотрела на него раскрытыми от ужаса глазами:
– Да ты точно ненормальный! Откуда ж в тебе столько злобы, столько ненависти? Это ж твои отец с матерью, сёстры!
И тут Семён сорвался. Он потом это делал не раз, не два – много. Так случалось почти с каждой бабой, а их у Сени Милькина хватало. Нынешнюю жену он тоже стал «лечить» – так он называл это про себя. Не сразу, со временем, но стал. И случилось это как раз после её очередного сюсюканья: «Милочка ты мой!..»
А в тот раз с Матрёной у него будто черепную коробку сорвало и в голове закипело, он чувствовал этот жар – пылали уши, лоб, вся башка. И он со всей дури кулаком ударил в лицо женщину, которой ещё вчера ноги целовал. Матрёна рухнула как подкошенная и привычно прикрыла голову руками.
«Отойдёт», – подумал Семён и удивился собственному спокойствию. Постоял, помолчал, прислушиваясь к себе: сердце бьётся ровно, руки не дрожат, в голове спокойно, никакого жара, наоборот, – он даже воздух носом втянул, чтобы убедиться, – будто осенний холодок вперемешку с запахом свежеразрезанного арбуза. Потом это состояние будет повторяться всякий раз после того, как он даст выход своему гневу. А тогда ему показалось, что он парит – лёгкий, свободный. И на душе так хорошо. Это было одновременно и странно, и страшно, и восхитительно.
До вечера Семён просидел в шинке. Не напился, нет, пропустил несколько стопок – и всё. Просто сидел, отдыхал, наблюдал за народом, прислушивался, о чём говорят. К нему пытались было приставать с сочувствием и расспросами, но он угрюмо отмалчивался и смотрел так, что пропадало всякое желание продолжать с ним беседу. Тогда всё списали на горе, которое испытывал парень после такой трагедии. А ему просто было легко и хорошо. Хо-ро-шо! И они – никто! – этого не понимали, не могли понять. Они были из другого теста. Вот тогда и родился Сеня-чекист. Теперь он это знал точно. А в тот день он всего лишь чувствовал, ещё до конца не осознавая, что произошло что-то очень важное, изменившее его жизнь навсегда.
Вечером как ни в чём не бывало он вернулся к Матрёне. С почерневшими распухшими губами она сидела у стола и была пьяна.
– Убирайся! – только и сказала.
Семён пожал плечами и произнёс почти бесстрастно, будто казённую бумагу читал:
– Прости. Так получилось Я не нарочно, – и спросил: – Ты меня любишь?
– Я тебя ненавижу! – закричала Матрёна.
Семён опять прислушался к себе – он сегодня это делал целый день: внутри всё было спокойно.
– Это сколько угодно, – ответил, не меняя тона. – Завтра всё пройдёт. Собирайся, мы уезжаем.
– Пошёл ты!.. – опять сорвалась в крик Матрёна и показала Семёну кукиш. – Никуда я с тобой… И вообще, ты думаешь, я тебя захотела? Просто твой отец, твой замечательный отец, которого ты, скотина, даже похоронить не хочешь, пришёл ко мне и спросил: «Мальчик уже большой. Ему нужна женщина. Ты бы не могла помочь?» Я тогда удивилась: «Почто ко мне-то? Купили бы ему проститутку». А твой мудрый отец ответил: «Он же не совсем идиот. Ему для первого раза от бабы тепло надо, чтобы в губы целовала, чтобы если не любовь, то хотя бы как будто. А ты это умеешь, я знаю, к тебе отцы уже обращались. Да и парень у меня славный»… Так и сказал про тебя, сволочь, «славный»!.. Убирайся!
Семён выслушал всё, что проорала ему разъярённая Матрёна. Ни один мускул не дрогнул на его просветлённом лице. Он молчал. Женщина тоже замолчала и в ужасе смотрела на Семёна, словно видела перед собой чудовище. Но чем дольше она смотрела в эти холодные тёмно-карие неморгающие глаза, на это открытое скуластое лицо, от которого так и веяло спокойствием и уверенностью, тем больше она понимала, что ей нравится этот гадёныш и, если он будет настаивать, она подчинится и… станет собирать вещи.
Но Матрёне повезло. В голове Семёна железным строем одна за другой прошли правильные мысли: «Да, отец был прав. Спасибо ему. Она сделала своё дело. Она мне больше не нужна».
– Ты мне больше не нужна, – сказал он. – Я ухожу.
Больше Семён не произнёс ни слова. Развернулся и ушёл. Навсегда. За пазухой у него лежало достаточно денег, чтобы начать новую жизнь.
4
Теперь у Владлены была новая жизнь, и она шла, как будто летела, по Крещатику во всём новом, помахивая новеньким белым ридикюлем «чистой кожи» – так, во всяком случае, утверждал Сеня. Признаться честно, маленькая сумочка, где умещались разве что носовой платок и кошелёк, была для неё не новой, а просто первой. Никогда до этого в жизни Владлена не нáшивала подобных бесполезных вещиц, на которые было бессмысленно тратить деньги, тем более что лишней копейки у неё отродясь не водилось. Но это был подарок от человека, в которого она, как ей тогда казалось, влюбилась без памяти. С той самой минуты, как он распахнул дверь и пригласил её и ещё одну работницу, повариху кажется, в качестве понятых.
Она уже не могла с отчётливостью вспомнить детали того дня, только какими-то урывками: звуки, цветовые пятна… Всплывало полное одутловатое лицо директрисы, ещё более расплывшееся от слёз. В дополнение ко всему гримаса неподдельного страха обезобразила её до неузнаваемости, так что Владлена поначалу даже не признала в грузной тётке за столом их миловидную Хозяйку, как за глаза называл заведующую столовой весь коллектив.
Потом Семён заговорил – и всё изменилось. Она уже больше ничего не видела и не слышала, кроме его лица и чарующего голоса. Машинально подписала какие-то бумажки. Очнулась, только когда лейтенант, словно невзначай, ходя взад-вперёд по комнате, приблизился к ней и, не разжимая губ, так что никто другой не заметил, шепнул в самое ухо: «Подожди за дверью». А вслух громогласно пророкотал: «Понятые могут быть свободны!» Повариху словно ветром сдуло от греха подальше, а Владлена медленно вышла на ватных непослушных ногах и прижалась спиной к зелёной холодной стене у самого дверного косяка.
Благо на тот момент у кабинета уже никого не было – гэпэушники разогнали работников по домам: «Нечего тут ошиваться. Цирк закрылся». У входа остался один ночной сторож Митрофан, вызванный специально по такому случаю пораньше. Он как истукан, переминаясь с одной изуродованной ревматизмом ноги на другую, стоял у массивных столовских дверей. Кто-то с улицы время от времени дёргал за ручку, а дед, насколько хватало сил, хрипел изнутри: «Идальня вже заперта!» Двери были толстые, дубовые – наследие царских времён, когда здесь работал ресторан для аристократов и чиновничьего люду. Поэтому народ, жаждавший перекусить и остограммиться, продолжал настойчиво дёргать за натёртую до самоварного блеска медную – как не украли в шальные времена! – ручку. Тогда дед скидывал щеколду, приоткрывал дверь и страшно орал в обжигающий морозный воздух: «Шо дёргаешь! Сказано – идальня не працюе! Уходь вид лыха, наче милицию поклычу». Уличный народ с перепугу отпускал дверь и удивлялся: «Тю! Шальной. Шо ж ты так голосишь, дурень? Закрыто так закрыто. Напиши бумажку да нацепи на дверь». На что дед только рукой махал, а про себя ворчал: «Так как же я напишу, коли грамоты не знаю?»
Владлена наблюдала за происходящим как в тумане. Хотела подойти к деду, помочь написать, да хоть бы на обёрточной бумаге, которую тут всегда было можно найти. Но боялась покинуть свой пост: вдруг лейтенант выйдет, а её нет? Глупая баба! Куда ж он мог деться, ведь из столовой был только один выход. Но Владлена продолжала стоять у кабинета как заворожённая.
Наконец двери распахнулись, и вышла сначала директриса в роскошной лисьей шубе, руки за спиной – Владлена так и не поняла, были ли наручники или та сама руки за спину убрала по приказу. Следом за директрисой вышли двое в шинельках, с пистолетами в руках. А позади всех – он, её красавчик: в кожаной куртке, в фуражке, лихо сдвинутой набекрень.
«Дождалась. Молодец», – похвалил Владлену Семён, ничуть не удивившись. И, скомандовав подчинённым, чтобы они с арестованной садились в воронок, – «мне тут задержаться надо, кое-какие детали прояснить» – повернулся к Владлене, взял под локоть и приблизил лицо к её лицу так близко, что она глаза прикрыла. «Хороша!» – прошептал Семён и поцеловал Владлену прямо в полуприкрытые губы долгим, глубоким поцелуем. Она чувствовала, как жар разлился по её телу сверху донизу, хотела и боялась обвить руками его шею. Так и стояла – руки по швам, прижавшись спиной к стене, – пока он не нацеловался. Напоследок Семён до боли прикусил ей губу.
А потом назвал время и место, где будет ждать её завтра. И добавил: «Дома скажешь, что придёшь на следующий день». Семён не знал, замужем эта женщина или нет: ему было всё равно, потому что он видел, что баба хочет быть с ним. А раз так, значит, решит сама, как ей всё провернуть наилучшим образом, сама разберётся со своими домочадцами. Он не был кретином и прекрасно осознавал, что Владлена могла прийти из страха за себя, за своих близких, – все знали, какие легенды ходят про людей его профессии. Ну и что? Так даже лучше: страсть, приправленная страхом, ещё горячей и слаще. Ну а ежели не придёт, то жаль, конечно, такая красотка и в постели, должно быть, лихая, но преследовать её он не станет: невелика потеря! Ромбы на петлицах дороже в сто крат, а таких, как эта, он себе добудет ещё не одну, пока занимается защитой государства: это ему в качестве компенсации за внеурочную работу, премия. Однако наглеть не надо, не по чину. Семён это отлично понимал и умел держать себя в руках, за что его и ценило начальство.
Владлена, однако, пришла к назначенному часу – и всё у них закрутилось-завертелось, будто на самой расчудесной карусели. И случилось так, что Семён сам не заметил, как влюбился в эту случайную бабу, по уши влюбился и вместо разовой премии себе выписал судьбе долговую расписку на всю оставшуюся жизнь…
5
Владлена шла по улице имени Воровского, которую все продолжали называть Крещатик и никак иначе. Кто был тот Воровский, она толком не знала. Это нынешняя мода такая – улицы именами советских деятелей и героев называть. Например, бывшая Фундуклеевская, по которой она выходила на главный проспект Киева, нынче носит имя Ленина. Но с этим хоть всё понятно: Ленин – это Ленин, вождь мирового пролетариата, прародитель Страны Советов.
Когда Колька вступал в пионеры, в доме чуть не каждый день звучало это имя. Правда, звучало как-то ущербно, будто подмена: вместо Ленин – Ильич. Владлене это казалось оскорбительным. Она смутно помнила из давних, полных неведения и потому счастливых детских лет, как по соседству с их семьей, в полуразвалившейся мазанке жил вечно пьяный бобыль Степан Ильич. Так его никто по имени и не звал, а так, запросто, будто собачку подманивали: «Эй, Ильич! Подь сюда, подсоби, я тебе за то первача в стакан плесну». И тот подбегал с трясущимися руками, приплясывая на ходу. Разве что хвостом не вилял, поскольку не имел этого самого хвоста. А имел бы… эх! Владкин дед так и говорил: «Ильич и есть Ильич: кличка пёсья. Пустой мужик, бесполезный. Только жалко… как брошенную собаку».
Так что когда сын поминал Ильича, Владлена непроизвольно вздрагивала, будто слышала сигнал из детства. Но никуда не денешься: сын есть сын – приходилось соответствовать. Особенно весь мозг Владлене он вынес, когда заучивал торжественное обещание перед вступлением в пионеры. Колька запоминать всякие тексты был не мастак. Даже стишок в четыре строчки мог учить не один день, а как только в школе к доске вызывали, забывал напрочь. То ли дело Ривкин Буська: с лёту всё схватывал и тут же мог повторить слово в слово, и не только с листа, но и с чужого голоса. Колька же нет: ему надо было повторить сто, а то и тысячу раз. Да ещё чтобы кто-то при этом следил по написанному и поправлял или напоминал, когда Колька замирал надолго, мучительно закатывая глаза, словно в надежде обнаружить подсказку где-то в недрах черепной коробки. В результате бесконечных мучений пионерскую клятву наизусть выучила Владлена – ночью разбуди, могла отбарабанить без запинки, – а Колька ни в какую.
– Я, юный пионер СССР… – бубнила, не заглядывая в бумажку, Владлена.
– Я юный пионер… – бессмысленно повторял Колька.
– …перед лицом товарищей торжественно обещаю…
– …перед лицом товарищей торжественно обещаю, – покорно повторял сын.
– что…
– Что-что? – вскидывался Колька, не понимая.
– Не задавай вопросы! – не выдерживала Владлена. – Просто скажи: «что».
– Зачем? – не унимался будущий пионер.
– Господи, дай мне сил! – как положено в подобных сложных обстоятельствах, взывала мать к главному воспитателю и создателю всего и вся.
– При чём здесь Бог?! Мамка, ты сдурела?! У меня теперь в голове вообще всё перемешается. А если я с перепугу это ещё и ляпну на торжественной линейке, меня ж не только в пионеры не примут, меня вообще из школы выгонят!
В ответ у Владлены чуть не сорвалось с ещё большей страстью: «О Господи!» – и щепоть сама потянулась ко лбу, чтобы перекреститься, но вовремя осеклась и только прорычала, как раненая тигрица:
– Хватить балаболить! Повторяй: «…что буду твёрдо стоять за дело рабочего класса…»
И так длилось каждый божий день в течение двух недель. В конце концов с грехом пополам Колька выучил клятву и мог, хоть спотыкаясь, умолкая в самых неподходящих местах, но всё же произнести полностью четыре магические строки, которые Владлена про себя называла «пионерской молитвой» и каждый раз прикусывала язык, боясь это ляпнуть при Кольке. Хотя как ещё назовешь этот текст, если не молитва: тут и обещания не грешить, и призыв к «высшим силам». Только заместо Христа у пионеров Ильич. Но по сути какая разница?
«Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича – Законы юных пионеров» – концовка у Кольки получалась на ура, без запинки, прямо от зубов отскакивала. Мальчик словно радовался: наконец-то отговорил! На этих словах глаза у него загорались каким-то невозможным, яростным светом. «Словно архангел!» – любовалась мать сыном и зажимала рот ладонью, чтобы скрыть улыбку радости: того гляди заметит, поганец, решит, что мать насмехается. Но глаза её выдавали – наливались слезой. А Колька на самом деле с каждым звуком последних «аккордов» клятвы переставал что-то замечать вокруг себя и чувствовал, как набухают мышцы на руках, напрягаются ноги, распрямляется спина. Имя Ильича он уже не говорил, а выкрикивал мальчишечьим фальцетом. И, произнеся последний звук, не давая себе передышки, делал то, ради чего затевался весь этот ритуал.
– К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов! – скороговоркой, захлёбываясь словами, словно от лица незримо присутствующей пионервожатой, приказывал сам себе Колька. После этого замирал на секунду, вытягивался в струнку, хотя, казалось, куда ещё больше, набирал полную грудь воздуха, вздёргивал поперёк лба правую руку в пионерском салюте и орал на всю мощь: «Всегда готов!» В это мгновение его словно не было ни в их небольшой комнатёнке, ни в Киеве, ни вообще на грешной земле. Так что Владлена, стоя рядом, успевала трижды мелко-мелко осенить сына крестным знамением.
Как-то, заглянув в церковь на окраине Киева – к тому времени большую часть их снесли или переделали под «общественные нужды», предварительно убрав купола да кресты, – она спросила у приходского священника про «пионерскую молитву». Особенно не давал ей покоя этот истошный крик: «Всегда готов!» Священник был человек, по всему видать, образованный. На её вопрос он улыбнулся и успокоил:
– Это всё Божье дело, душа моя. Ещё в Евангелии от Матфея сказано «vos estote parati» – «вы будьте готовы». На что христиане в той же Англии отвечали: «Semper paratus» – «Всегда готов»… – И добавил: – А что там про партию, так это, может, даже и к лучшему… Когда-то, в годы моего детства, это был девиз русских скаутов…
На этих словах батюшка осёкся, словно испугавшись чего-то, и не стал дальше ничего пояснять, а быстро перекрестил Владлену, как-то неловко сунул ей руку для поцелуя и ускользнул в ризницу.
Владлена не всё поняла из сказанного священником, но главное усвоила про Евангелие и Божий призыв. «Значит, дело хорошее», – решила про себя и стала с ещё большей одержимостью учить «пионерскую молитву» на пару с сыном…
6
Хотя было ещё довольно рано – гастроном, в котором работала Владлена, открывался в восемь, а на работу надо было приходить за час до открытия, – по Крещатику уже вовсю весело позванивали, скрежетали новенькие трамваи «тяни-толкаи». Добегал такой железный вагончик до конечной, вагоновожатый переходил назад, в другую кабину, и трамвай отправлялся в обратный путь.
В небе сияло июльское солнышко. Пахло зреющими каштанами. Улица, только что умытая поливалками, дышала свежестью, высыхая на глазах.
У больших стеклянных дверей центрального «Сорабкопа» маячил Семён. Владлена издалека заметила его, но продолжала идти как шла – лёгким, быстрым шагом, помахивая ридикюлем, как девчонка. Не удержалась и метров за сто до гастронома ускорила шаг, а там и вовсе перешла на бег.
«Вот же трясогузка! Подставляется», – сердито подумал Семён и тут же поймал себя на мысли о том, что на самом деле ему нравилось, с какой непосредственностью, с какой горячностью, даже отчаяньем кинулась Владлена в омут их любовного приключения. История длилась вот уже скоро как полгода и удивительным образом не только не надоедала Семёну, а даже наоборот, ещё больше увлекала. Он стал замечать в себе проявления некой не свойственной ему, чекисту со стажем, слабости. Стоило не встречаться с Владленой неделю, как он начинал испытывать беспокойство, настроение портилось, всё и все вокруг раздражали. Он срывался на жену и даже на детей.
Семён умел судить о себе и своих поступках здраво, что называется, со стороны. Ко всему прочему, он любил читать и с удовольствием, с упоением, доходящим порой до какого-то неистовства, набрасывался на книги, в которых находил для себя новые и полезные сведения. За книгой он порой мог просидеть далеко за полночь, чтобы потом ни свет ни заря вскочить невыспавшимся, с воспалёнными глазами, но с чувством радостного возбуждения от переполняющей его новой увлекательной информации. Чтение действовало на него как морфий: чем больше он читал, тем больше хотелось. Жена Сонька ни черта в этом не понимала и считала полной блажью.
Попытка приобщить её к чтению завершилась ничем. Семён поначалу доходчиво и ласково объяснял пользу от книг, но, увидев в глазах супруги тупое безразличие, стал сердиться, а потом «дошёл до точки кипения» – одно из выражений противной Сонькиной сестры. Та вечно науськивала Соньку против него – мстила таким образом Семёну за то, что он делал свою работу, не желая никак понять, что если не будет её, как она же выражалась, «шмонать» Семён, то это сделают его коллеги по цеху – и тогда пиши пропало: закроют дуру и сошлют лес валить лет так на десять, а то и больше. И это в лучшем случае. В худшем, понятно, просто к стенке. После таких дел быстро установят все родственные связи и выведут на чистую воду и сестру младшую, и его, раз уж по воле судьбы он прилепился к этой семейке. И не помогут никакие оправдания и никакие старые заслуги: конец карьере, конец службе. И это опять же в лучшем случае. Времена сейчас неспокойные – враги народа повсюду, так что, не ровён час, попадёшь под горячую руку да за компанию. И тогда ничего не попишешь: лес рубят – щепки летят.
И с этим чтением, бес его дери, Генька тоже подкузьмила. Соня, не выдержав натиска Семёна, расплакалась (это была её любимая «пьеса» – реветь по всякому поводу) и закрылась в коммунальном туалете. Он плюнул и не стал больше приставать с книгами. А на следующий день, когда после неудачного допроса – упёртый подследственный попался, половину зубов потерял, а стоял на своём: «Я не я, и хата не моя», – Семён, усталый и раздосадованный, вернулся домой, его встретил кагал в полном составе: благоверная и её сестрица. Генька ему даже рта не дала открыть: вышла посерёд комнаты, руки в боки – чистая босячка – и устроила выволочку. Мол, ещё раз будешь Соньку доставать со своими глупостями книжными да руки прикладывать, пойду и заяву напишу начальству твоему: пусть проверят, что ты тут за шмутс[24] по ночам читаешь.
Семён тогда махнул рукой и оставил Соню в покое: пусть дурой живёт, ещё из-за этого себе нервы портить. Да и кто знает эту Гинду – шальная и вправду может на него настучать: не сама напишет, потому как безграмотная, так кого-нибудь приобщит. Ей что, у неё пол-Киева в клиентах ходит. Сонька – та побоится, а этой море по колено. Про неё даже собственная мать говорила: «Шланг[25] и фэрд[26] в одной кастрюле»…
То, что с ним происходило в отношениях с Владленой, было очень похоже на эту его страсть к чтению: чем чаще они встречались, тем больше он её хотел. А она ничего от него не требовала. Про то, чтобы он ушёл к ней жить насовсем, даже не заговаривала. И этим своим поведением ещё больше привязывала к себе Семёна. В конце концов он пришёл к выводу, что у него психологическая зависимость от Ладушки, как с первой ночи он привык называть Владлену. Кстати, про эту самую зависимость он узнал из тех же книг и усвоил, что она будет похуже любого наркотика. В общем, всё про себя понял чекист Семён Милькин и, будучи человеком осторожным и глубоко преданным делу партии и трудового народа, решил заканчивать с тем, что стало основательно мешать служению этому самому делу. Вчера сия умная мысль полностью оформилась в его голове, а сегодня с раннего утра он намеревался объявить окончательный вердикт Владлене: адью, мон амур!
Но когда он увидел, как она, светлая, радостная, вся прозрачная в лучах утреннего солнца, бежит, нет, летит к нему навстречу, никого не стесняясь, не прячась, будто впервые влюбившаяся девчонка, слова, приготовленные им для короткого прощания, комом застряли в горле. И когда она с ходу повисла на нём, крепко обхватив руками шею, он только и смог, что придержать её за талию и прошептать на ушко: «Ну что ты прямо как девочка. Нельзя же так, люди смотрят…» Ответ Владлены был банален и очевиден: «Ну и пускай себе смотрят…»
22
Пьяница (идиш).
23
Хаза́н, или хазн (ивр. חַזָּן), также кантор (лат. cantor – певец), или шали́ах цибу́р (ивр. שְׁלִיחַצִבּוּר – посланник общины), сокращённо шац, – человек, ведущий богослужение в синагоге. Исторически хазанами являются только мужчины.
24
Гадость (идиш).
25
Змея (идиш).
26
Лошадь (идиш).