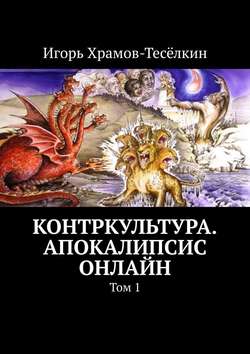Читать книгу Контркультура. Апокалипсис онлайн. Том 1 - Игорь Храмов-Тесёлкин - Страница 5
Сказки для детей и для взрослых, или новые сказки для новых русских
ОглавлениеВ одной «застойной» воспитательной статье, кажется, в журнале «Работница» я в раннем детстве прочитал замечательную фразу некой журналистки – критикессы в ответ на письмо читательницы, делящейся переживаниями по поводу непослушания сына: «Мы все читали и восхищаемся Томом Сойером, а у себя хотели бы иметь Сида – тихого, послушного, необременительного. Странно, правда?»
Дура ты, дура! Да что ж тут странного? Про Тома только читать интересно – вряд ли кому придет в голову умиляться, если ее чадо застрянет в пещере с бандитом, отправится на необитаемый остров в поисках сокровищ или улизнет ночью на кладбище. Про пиратов только читать здорово – в жизни с ними уж точно лучше не встречаться.
В конце статьи авторша вставляет очень характерную, я бы даже сказал – ключевую для понимания ее, авторши, позиции фразу: «Я даже стараюсь учить детей… чему бы вы думали?… (многоточие, за которым мне так и видится многозначительная, рассчитанная на восторженно-внимательное отношение читателя – слушателя пауза) – да – непослушанию!». Прямо как та тётя из телевизора, которая гордилась, что она голых тёток совсем не стесняется. Встаёт в позу и говорит: посмотри, мол, читатель и зритель, какая я добрая, талантливая, творческая, самобытная и креативная девочка! Совсем как тот избалованный ребёнок, который всегда – кстати и некстати – встаёт на стул читать гостям стихи. Ребёнок вырастает, оканчивает престижное учебное заведение, добивается определённого положения в обществе… и свято уверен, что именно ему – такому вот креативному – и положено всегда самое лучшее положение в обществе и порция восхищенного внимания. Мы о таких вот мальчиках и девочках еще поговорим. Ну куда от них денешься?
Почему я вдруг вспомнил эту древнюю историю? Тогда, в детстве, я принял эти рассуждения за чистую монету. Понадобилось покочевать по разным редакциям и издательствам, чтобы, «вживую» познакомившись с носителями подобных взглядов, узнать настоящую им цену. И взглядам, и их носителям.
Я часто думаю, кем стала автор статьи, фамилию которой я даже не запомнил, если дожила до перестройки? Наверняка она в нее «вписалась» – в прямом и переносном смысле – и стала «демократической журналисткой». Уж очень похоже.
Сегодня, когда очередные народные витии умиляются по поводу «доброй детской сказки» про Гарри Поттера, меня прошибает холодный пот. Интересно – у них есть свои дети?
Оказывается – есть. Я встречал «воцерковленных» «православных» людей, которые давали читать своим детям «Лолиту» Набокова и смотреть «Симпсонов» и прочую западную муру. «А что здесь такого? Да вы оригинал „Золушки“ почитайте!» Чем же моим оппонентам так не понравилась старая добрая сказка? А давайте их самих послушаем.
Вот, например, один ну очень умный мальчик. Профессор. Богослов и даже, вроде бы, друг самого Владыки, который пригласил его в качестве «тяжёлой артиллерии» – интеллектуальной поддержки аж из самой Москвы, поэтому собравшаяся в зале аудитория далеко вообще-то неглупого провинциального города – старого университетского центра – тихо и восторженно внимает тому, что этот самый профессор вещает.
Профессор, как человек весьма и весьма прогрессивный, как вы, наверное, уже догадываетесь, громит проклятых мракобесов, ополчившихся против «доброй детской сказки». Магии, говорите, много? Сатанизмом попахивает? Не говорите глупости – где вы видели сказку без волшебства? Жестокая? Крови много? У вас несколько идеализированные представления, в том числе и о сказках. А вы вообще все эти самые сказки – да в оригинале – читали?
И умный и добрый мальчик начинает пересказывать сюжет всем хорошо знакомой доброй детской истории. Да так, что даже видавшим виды криминальным репортёрам, как автор этих строк, например, становится жутко.
Представляете, приходят, значит, посланцы принца к мачехе с туфелькой, а та, чтобы эта самая туфелька влезла, режет доченьке пальчик. Надевает туфельку и везёт доченьку к принцу. Но обман раскрывается – туфелька ближе к финишу соскальзывает, и тогда, чтобы не потерять приз, мама – в лучших голливудских традициях – «режет доченьке пя-то-ч-ку. Хо-ро-ша-я де-тс-ка-я ска-зоч-ка».
Мальчик смакует каждое слово. Его конёк – разоблачение мифов, и он, похоже, испытывает от реакции зала явное удовольствие.
Эх, мальчик, дурак ты, дурак – хоть и профессор! Ну в каких университетах, в каких таких философских академиях да факультетах тебя научили так относиться к безусловно для тебя чужому, тем более – народному творчеству?
Всем памятна старая народная сказка «Соловей и роза», пересказанная для нас, если детская память мне не изменяет, Гансом Христианом Андерсеном, в которой глупая и капризная принцесса отвергает подарок влюблённого – живых соловья и розу и с восторгом принимает от него их механические подделки и даже готова отдать за них свои драгоценные поцелуи…
Подумайте – это в какое такое интересное место она так его целовала? Да уж наверняка не в щёчку – иначе, как замечает один «продвинутый» по советским меркам критик, навряд ли эта история имела такой колоссальный успех в народных тавернах, где её услышал и обработал Андерсен…
Не буду спорить с критиком ушедшей советской эпохи о происхождении сказки. Отмечу лишь, что до нас она дошла именно в её детском – целомудренном – варианте, донесённом до нас великим христианским писателем… кстати, как и многое другое. И это нормально. В том и предназначение подлинная ценность настоящего Мастера: обработать «единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Убрать любую, в том числе (в первую очередь) и словесную, шелуху, чтобы оставить одно – золотое – зерно.
Наши прекрасные и в значительной своей степени весьма и весьма продвинутые во всех отношениях сокурсницы – филологини, с которыми мы, историки, обучались бок о бок в Саратовском университете, удивлялись и даже порой возмущались: ну до чего же они на самом деле жестокие, эти русские народные сказки! Да вы только почитайте сборники Афанасьева – допустим, «Медведь – липовая нога»! Сразу исчезнет всякий пиетет к русскому народному творчеству – если он ещё остался, который в своих традиционных образцах весьма и весьма далёк от того, что донесено до нас Пушкиным и Далем!
Ах, милые девочки! Дорогие наши продвинутые информированные красавицы времён перестройки, алчущие и жаждущие, столь активно взыскующие и восторженно приемлющие роскошь человеческого общения – насколько возможно близкого, да в лошадиных перестроечных времён дозах, особенно да с более консервативно настроенным – о! – ну конечно – исключительно для контраста и остроты впечатлений – противоположным полом – какими же вы на самом деле были экзальтированно – глупыми! Наверное, стоило прожить целую жизнь – или значительную её часть, чтобы убедиться в этом. Может, потому большинство из вас – молодых -симпатичных и очень даже не очень – сегодня я понимаю, что последних было гораздо, гораздо больше – иронически настроенных критикесс, когда выросли, стали служить журналистками… Я бы даже сказал – прислуживать и выслуживаться.
Что? Что вы сказали? Либеральными? Это не я сказал – это вы сказали – либеральными. Ну конечно, какими же ещё. Не в патриотки же им идти, в самом-то деле. За это, как вы понимаете, ни материальных, никаких других дивидендов не платят. Нет, «Бешеных маток» тогда ещё не было. Во всяком случае, никто не заявлял о них столь открыто. Хотя и в наше время попадались весьма и весьма любопытные экземпляры. О некоторых из них я, Бог даст, напишу.
Одна из таких вот моих иронических критикесс – то ли маша гошина, то ли даша, …, мать её, прошина, буквально совсем недавно гордо писала в одной продвинутой такой газете, как её сын боролся с политическим монополизмом, развешивая листовки с призывами голосовать против «Единой России». Мама в его возрасте развешивала листовки с призывами голосовать против коммунистов…
Ну, да Бог с ними, пусть голосуют за кого хотят. В конце концов, это их право и дело. Которое, как всем видно, уже давно не правое, а всё более и более левое. Я о другом. Газета, между прочим, финансируется из областного бюджета. Ну как это они всю жизнь ухитряются быть против власти, и при этом всегда – за наши деньги? Как бы – за деньги тех, кого они – с такой нещадной яростью – критикуют? Господа из «Дубовой», «Хреновой» и прочей… ну да… не хотелось бы упоминать имя моей Родины в таком вот контексте – вы не пробовали это хоть как-нибудь объяснить? Для начала не нам, а хотя бы себе.
Судя по происходящему – не только не пробовали, но и не думали. Что ж, придётся это делать за вас. Во всяком случае – я попытаюсь. Мне всё равно терять нечего – я всю жизнь именно этим и занимаюсь. Но для начала мне хотелось бы заступиться за наши добрые сказки. Ну да: я всю жизнь именно этим и занимаюсь.