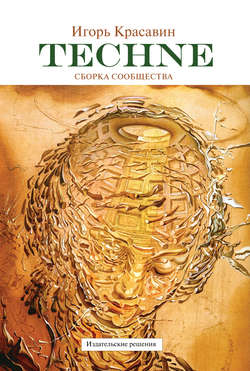Читать книгу Techne. Сборка сообщества - Игорь Красавин - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
ТЕОРИЯ
Глава 1
Рассуждения о методе
§1. OVO
ОглавлениеНу что ж, начнем, пожалуй…
Т. С. Элиот. Любовная песнь Альфреда Пруфрока
О сообществе высказываются многообразно. Как и в случае со временем, вместо него мы видим нечто другое. Приставка «со-» указывает на некоторую причастность, корень которой – в общении. То, что нас объединяет, и то, что различает. Не будет этого двойного движения, не будет и сообщества, останется лишь набор гипотетических объектов. Между тем, как правило, в обыденном научном дискурсе мы мыслим так, как будто коммуникация одномерна. Мы приписываем индивидам, группам, народам, странам, культурам, их отдельным институтам и процессам какие-то свойства, в зависимости от которых надо бы выстроить нужные отношения. Однако в реальности ситуация развертывается в обратной последовательности: попав в определенные отношения, мы обнаруживаем какие-то свойства, а никак не наоборот. Человек, а равно его природа и его культура сами по себе не являются носителями каких-то качеств и свойств, но обретают их, находясь в отношениях. Мы обладаем качествами и свойствами до тех пор, пока разделяем наши отношения с другими; стоит от них избавиться, и вот уже нет старых форм, привычных реакций, а есть нечто иное.
Способность людей и их сообществ к изменениям бесконечна, как бесконечны и отношения. Но прекрасно известно: как правило, люди консервативны в своих делах, образе жизни, ценностях, действиях и живут так, будто есть только один способ существования, даже если знают о многих других. Причиной этого часто считают глупость, алчность и прочие недостатки. Реальными условиями поддержания неизменности отношений являются борьба и примирение участника с собственной конечностью1 – рациональный выбор из того, что доступно в обстоятельствах жизни, и минимизация риска неизвестности. Для индивидов и групп как снующих туда-сюда множеств это настолько очевидно, что, сталкиваясь с непривычной для них сеткой отношений, они замечают не ее, а тех, кто ее воплощает. Характер и отношения общества не важны до тех пор, пока не наступают изменения, и вот здесь оказывается, что разные люди в общих обстоятельствах поступают по-разному. Люди не меняются, когда у них есть для этого возможность и необходимость, а меняясь, делают это не всегда ожидаемым образом.
То, как любой участник (индивид, группа, сообщество) видит себя, и то, как его видят окружающие, обусловлено их социальными позициями относительно друг друга, и все эти позиции гетерогенны, представляя собой локусы отношений, замкнутые на конкретных индивидах и группах2. Они никогда не воплощают в полной мере какие-то одни содержания, но пользуются всеми доступными. Задумываясь о сообществе, необходимо задать непростой вопрос: почему во множественной социальной среде любой участник поступает так, а не иначе?3 И вот здесь нас поджидает неприятный сюрприз, так как современная структура знания не позволяет увидеть очевиднейшую, на первый взгляд, вещь, а именно одновременное единство и множественность общества в каждом его проявлении. Единство и множественность общества совместны, ибо множит оно себя всегда одним и тем же образом. Знание с неизбежностью концентрируется на фрагментах и «забывает», что при всей своей необычности все люди едины друг с другом как множество живых существ. Это единство множества задается их коммуникацией, которая из одного набора отношений образует разные формы совместности, так что факт общения для людей гораздо важнее факта содержания.
Мы все еще рассматриваем социальные процессы, людей, их институты раздельно, потому что не умеем обращаться с различием. Если мы начнем искать истоки политических событий и процессов, то придем к экономике, если мы продолжим свой поиск далее, то упремся в социальные институты, за которыми находится культура традиций, заданных практикой политического правления, и так без конца. Эта взаимосвязь для тематически разделенных социальных наук неразрешима, тогда как повседневное человеческое существование, напротив, с легкостью данные различия сводит и разводит4.
Круговая связь отношений обусловлена тем, что объект их приложений один – это люди. Любой процесс в обществе может быть описан не только как формальный, функциональный, технический, культурный, но и как социальный, состоящий из отношений между людьми. Сравнивая социальный и функциональный аспекты, например, можно увидеть немало различий между тем, что должно, и тем, что есть. Люди живут сообществами – беспорядочными или управляемыми сообщающимися множествами. Все отношения, присутствующие в социальности, созданы для поддержания этих множеств, предполагая сообщества их участниками. Таким образом, общество является сетью бесконечно вкладываемых друг в друга множеств, которые в конкретной истории людей становятся в один момент и частью, и целым.
В последние лет сорок социальные, экономические, политические и гуманитарные науки, изучая общество, попытались сопрячь свой багаж и достигли многих успехов, но превосходства над практикой человеческого существования, увы, не достигли. В итоге приходится принимать те представления об обществе, которые бытуют в отдельно взятой дисциплине. Вследствие этого происходит их профанация как занятной, но пустой абстракции. Критерий «пустоты» прост. На практике отдельные процессы относительно легко переводимы из одного регистра отношений в другой. В теории же никакого соотнесения нет, а есть приписывание общих свойств безотносительно к различиям и поиск различий без оглядки на то, что их объединяет. Междисциплинарный взгляд на вещи полезен, но до тех пор, пока мы не станем полагать сообщество целым и гетерогенным одновременно, мы не сможем его мыслить вообще.
Имеются, по крайней мере, два условия, затрудняющие адекватное понимание социальных отношений. Первое заключено в мышлении, второе в сообществе. Наше рациональное мышление основано на редукции, или приведении неизвестного к известному в виде конечных свойств конечных объектов. Отсюда вырастает привычка приписывать им какую-то сущность, «настоящую природу», вместо того чтобы отслеживать множественные линии связей. Редукция неизбежна, как линия горизонта, которую мы видим, хотя ее нет в природе.
Второе условие кроется в социальном устройстве, следствием которого стало устройство и фокусирование наук. Всякое строение общества предполагает достижение им с помощью институтов определенных целей, реализующих чаяния разных индивидов и групп. Институциональные цели всегда идеальны и строго функциональны и соотносятся со всеми людьми «вообще». Но встраивание людей и институтов с их рациональностями происходит не «вообще», а в конкретных условиях коммуникации, проводя свое, так сказать, существование в качестве тех или иных сообществ. Достигая каких-то общих целей, люди реализуют работу институтов, в том числе в своих интересах и в меру своего рационального понимания, так что «общего» мы никогда и не видим и общаемся лишь с тем, что имеет (хотим мы того или нет) к нам отношение.
С тех пор как проблема общества была поставлена, наука так и не смогла ответить самой себе, что такое общество, и даже сомневается в его существовании; как говорится: «не верь глазам своим». Дилемма в том, что, несмотря на прогресс знаний, социальный двигатель остается недоступным пониманию или хотя бы просто отслеживанию. Прикладные тактики применяются достаточно успешно, но теория общества пока представляет собой Франкенштейна, собираемого из разных дисциплин, каждая из которых, во-первых, претендует на генерализацию своих частных взглядов в виде всеобщих везде и всегда и, во-вторых, просто прибавляется к уже существующей массе названий и концепций. Общество – это как бы все вместе, но ничего конкретного о нем сказать нельзя, внешне что-то человеческое ему присуще, но будет ли жить, неизвестно.
Основной онтологической и методологической проблемой представления об обществе является вера в субъекта, сводимого к конечному алгоритму действий, рациональной функции, культурной ценности, отдельному институту или чему-то еще. Существующее дисциплинарное деление наук и стремление каждой из них представить обобщенную модель общества, основываясь на своих частных посылках, лишь усугубляет положение. Когда-то социальные, экономические и политические науки были созданы для того, чтобы избавиться от спекулятивной философии и абстрактно-религиозных воззрений на человеческое бытие. Но с момента своего появления общественные науки воспроизвели классическую метафизику в виде идеи о политических, социальных, экономических, культурных субъектах.
Вместо некоего общего представления о человеке, какой давала философия, появились атрибутивные различия «идеальных типов»: если человек феодал, значит, мыслит и действует он только по-феодальному, если менеджер или инженер – и в этом случае будет специальная рациональность, управленческая или техническая, ну, а если он пролетарий или капиталист, стало быть, его социальный двигатель тоже будет особый. Та же модель переносится на организации: частные и государство, у них-де особые типы рациональности и эффективности; и, естественно, сами сообщества не избегли этой участи – так возникли «развитые» и «недоразвитые» сообщества и культуры. Это открыло дорогу целому вороху частных генерализаций; так появились человек экономический, рациональный выбор, классы, свобода, демократия, цивилизация, волны модернизаций и т. п. – нечто, что якобы присуще всем, но на практике лишь немногим.
В основе всех этих представлений лежит допущение того, что какая-то деталь может быть объявлена сущностью социального как в теоретическом целом, так и в институциональных частностях. В конечном счете, это древний спор об идеях, каждой из которых соответствует отдельный тип отношений, сознания, ценностей, действий и позиций участников социальной системы. Такой подход, узкоспециализированный, или междисциплинарный, не позволяет увидеть и объяснить связь между различными деталями и конструктами сообщества. Для разных аспектов одного и того же процесса берутся никак не связанные между собой теории, тогда как в повседневном существовании любые аспекты и детали всегда взаимозависимы.
Вопросы, на которые здесь необходимо ответить: как существует общество без субъекта, инспирированного в индивидах и группах воздухом свободы, кровью земли, огнем духа или пылью традиций, но при этом существует объективно? Является ли оно массой человеческих тел или это образование в известной степени самостоятельное? И если сообщество самостоятельно, как оно может быть подвергнуто анализу? По сути, все вышеуказанные вопросы сводятся к тому, каким образом возможна демонстрация социальной динамики в научной теории, а следом за этим и управление ею в повседневной практике. Формализация социальной динамики могла бы показать экзогенные и эндогенные черты со-бытия, и непонятая душа общества, а равно и ее институциональное устройство, предстали бы во взаимном превращении.
Конкуренция является вопросом отношений, а не атрибутов игрока… Слабость связей – это коррелят, а не причина… Проблема в том, что связь между атрибутами и социальным меняется в зависимости от того, о какой группе населения идет речь, и с течением времени… эта связь не причинно-следственная. Это корреляция… идиосинкразическая… Чтобы избавиться от атрибутов, нужны концептуальные и исследовательские инструменты, дающие возможность смотреть мимо того, как атрибуты участника ассоциируются со значительными структурными формами, и тогда увидеть сами формы5.
Поскольку спрашивать о том, что первично, сообщество или динамика, бессмысленно, необходимо принять их в ситуации постоянной совместности. Сообщество постоянно собирается и разделяется, пребывая одновременно в разных состояниях, но тщательно отделяя одно состояние от другого. Это коммуникация, риторика действий6. Доминирующее представление о социальной коммуникации связывает ее с идеями и словами. Когда речь заходит о том, как сообщается социальная система, то выясняется, что, кроме спекулятивных построений, сказать и нечего, поскольку практическая, повседневная реальность слишком непредсказуема. Здесь опять встает проблема двигателя, субъекта, вернее его отсутствия, с чем и связана социальная непредсказуемость. Однако отсутствие субъекта (или субъектов, отвечающих за отдельные разделы реальности) не означает отсутствия организации, и в этом смысле процессы коммуникации сообществ есть их взаимная организация. Метастабильная организация, в свою очередь, предполагает важную тему структуры – как структуры действия, так и структуры сообщества. И если коммуникация есть нечто динамичное, то структура явно статична, хотя обе они – одно и то же7. То есть проблема организации социальной динамики – это проблема структурности структуры. Это вопрос о том, как структура себя воспроизводит, какие необходимые отношения должны быть между составными конструктами и элементами, чтобы структура могла считаться таковой.
Объяснение динамики социальной структуры в теории, если вспомнить одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе, должно согласовываться с практикой, и здесь понимание организации сообщества выводит на множество предметных коммуникаций повседневного характера. А именно: какие самые общие условия и формы организации сообщества необходимы для поддержания его существования?8 Это вопрос о том, как сообщество, будучи множественным, сохраняет и преобразует себя в качестве целого. Если более конкретно: как процессы коммуникации создают институциональные формы организации и что заставляет множество разных индивидов и групп поддерживать эти институты и организации. Это проблема того, что есть власть, капитал, производство и обмен, взятые в операциональном аспекте коммуникации, в виде общения, формального и экзистенциального, индивидов и групп. Присутствие определенных практик и организаций никогда не является личным делом непосредственных участников, но всегда опосредовано и обусловлено всей системой коммуникации, так что, разбирая эту систему, было бы уместно обнаружить взаимосвязи между разными уровнями социальной структуры.
Двигаясь таким путем, мы вряд ли найдем первопричину или наиболее общий признак, толкающий сообщества на жизнь и смерть, скорее, мы увидим, как разные процессы коммуникации, уровни структуры и формы организации сообществ соотнесены друг с другом. Социальная система обнаружится не статичной, а организованной в перманентной динамике, то есть цикличной и эволюционной. Выстраивая спекулятивную теорию, стоит помнить, что социальные процессы разворачиваются в реальном времени, в связи с чем эволюция не может быть равной, но всегда зависит от объективных ограничений и возможностей организации конкретных сообществ.
История никого не ведет из пункта А в пункт Б, не дарует исполнения особого предначертания и не воздает за грехи. История – это социальный морфогенез и в данном качестве является одновременно уникальной и типичной. Разворачивание цикличных процессов коммуникации в виде морфогенеза позволяет не только проверить теорию сборки социального на конкретном историческом материале, но и поставить теоретические и практические вопросы будущей организации человеческого сообщества. Здесь встает задача экспликации социальной эволюции в предметный анализ конкретных политических и экономических отношений сообществ, ибо если с помощью социальной теории нельзя ставить насущных вопросов и отвечать на них, то к чему такая теория?
1
Керимов Т. Х. Неразрешимости. М.: Академ. проект, 2007. С. 33.
2
Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 102—103.
3
Лейбниц Г. В. Переписка с Кларком // Соч.: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1982. С. 442.
4
Шюц А. Социальный мир и теория социального действия // Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 97—115.
5
Burt R. Structural holes: The Social Structure of Competition. Harvard University Press. 1995. P. 3, 73, 189, 193.
6
ДелезЖ., ГваттариФ. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 267—271.
7
Там же. С. 853—871.
8
Wagner P. Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology // Thesis Eleven. 2010. P. 57—58.