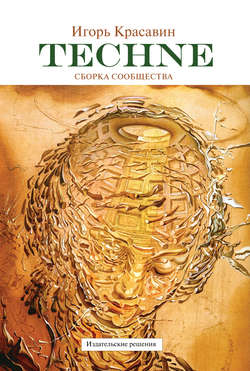Читать книгу Techne. Сборка сообщества - Игорь Красавин - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
ТЕОРИЯ
Глава 2 Машина различий
§2. Полиморфная порочность
ОглавлениеТаков ваш вкус и времена таковы, каковы они есть.
Т. Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
Люди существуют в виде индивидных и коллективных тел54. Оказавшись членом какого-либо коллектива, индивид разделяет характерную для группы форму коммуникации, а постоянство группы придает коммуникации самоподдерживающийся характер. Не обладая полнотой информации обо всех происходящих событиях и их значимости по отношению к ним лично, индивиды не тратят время на вычисление наиболее эффективного, полезного, быстрого, дешевого и т. д. способа взаимодействия. Вместо этого индивиды подражают друг другу, взаимно перенимая формы отношений55.
Желающий характер бытия конституирует потребность в сообществе56. Хотя сознание людей интенционально – направлено на поиск смысла вещей, этот поиск и его направленность не принадлежат ни сознанию, ни смыслу. Интенция не замыкает сознание в круг какого-то «истинного смысла», поскольку она (интенция) – не что иное, как желание, которому сам процесс связи важнее смысла, который он несет. Так создается общение как таковое в самом акте связывания множества отношений. Желание определяет упорство человека в поддержании коммуникации, даже в отсутствие какой-то специальной цели или объекта57. Напротив, эти цель и объект образуются в качестве переменных отношений, из которых состоит любой участник:
…желание никогда не отделимо от сложных сборок… никогда не является безотчетной недиффиринцированной энергией, скорее, оно само – результат хорошо разработанного монтажа, некой инженерии высоких взаимодействий58.
Формы отношений зависят от конечности участника, и если цели и объекты могут меняться, то процесс соотнесения участника с самим собой во множестве отношений метастабилен – это и есть его желание. Оно не рефлектирует, а конкурирует, так что создание одних объектов сопровождается репрессией других59. Таким же образом формируются коллективные тела, так что, пока существуют сообщества, они создают множественные сети отношений, которые дифференцируют и интегрируют сами себя. Благодаря такой связности индивидные и коллективные тела самоорганизуются вне зависимости от того, какие конкретные институции удерживают их вместе. У этого удержания, объединения и разделения коммуникации имеется своя динамика, которую обычно называют словом «жизнь», но которая не столько антропоморфна, сколько социальна60.
Таким образом, коллектив получает возможность бесконечно воспроизводить себя, и он это делает, если только в круг его повседневной жизни не вводятся новые практики и образцы. Инновации связаны с индивидами (которые перенимают их друг у друга) в том случае, если они оказываются причастны неким новым, необычным для коллектива процессам и отношениям. Способность группы принять новые практики зависит от преимуществ, которые смогут принять участники, существующих потребностей и опасностей, которые эти практики для коллектива несут. Комбинация данных условий и определит соответствующую реакцию: примет новые отношения коллектив, запретит их или останется равнодушным. Если индивиды образуют самоподдерживающееся сообщество, это повлияет на возможности распространения характерных для коллектива отношений, иначе говоря, на их институциализацию.
Индивиды социализируются в коммуникации и продолжают воспроизводить ее между собой. Индивид знает, что он не всесилен и когда-нибудь умрет. Эта граница разворачивает коммуникацию и она же кладет ей предел, причем не только метафизический, но и вполне обыденный61. Что бы ни говорил о себе индивид, он всегда различает содержание коммуникации и свое отношение к ней: любая коммуникация всегда есть сравнение существующей границы отношений с новым содержанием.
Все, что делает индивид, сказывается на сообществе, и наоборот, но ни группы, ни индивиды этого не замечают, особенно если их принадлежность чисто статистическая. Поэтому все, что делает индивид, и все, что он представляет, с необходимостью социематично. Степень влияния отдельного индивида или группы зависит от социальных процессов, которым они постоянно причастны. Сеть коммуникации и формы включения в нее участников определяют спектр их интересов и возможностей. Участникам необходимо поддерживать свое индивидное и групповое существование, которое они отождествляют с множеством разнородных событий, поэтому они воспроизводят свои отношения в виде социем. С их помощью индивиды и группы включают других людей в отношения с собой и с инициировавшими их сообществами. Загадка коммуникации заключается в понимании людьми друг друга, хотя никто из них не способен пережить реальность за другого. Индивиды, если можно так выразиться, существуют параллельно друг другу, замыкая осмысление событий вокруг самих себя, тогда как в реальности значения и события множественны. Траектории отношений пересекаются, но для каждого из участников выстраивают разные последовательности событий.
Конструирование отношений проводится с помощью целенаправленно или беспорядочно образуемых сообществ. Если инструменты и содержания такой коммуникации достаточно разнообразны, то формы отношений индивида и сообщества весьма ограничены. Сообщество – основной способ существования человека и участник коммуникации. Индивид нечасто вспоминает, что принадлежит какой-то группе, если принадлежность статистическая, как, например, у водителя, носителя одежды и политических предпочтений. Такие общности, как правило, не формализуют свои отношения внутри группы и вне ее, в связи с чем они существуют за счет образа жизни индивидов, которые таким способом цепляются за общий процесс коммуникации. Как единый коллектив эта группа обнаруживает общие свойства и реакции, но является несамостоятельной, и все изменения происходят на уровне индивидов. Групповой характер реакции обусловлен типичностью образа жизни и идентификаций, а потому, зная о привычках одного индивида, можно немало рассказать о привычках многих. Воздействие на такие группы с помощью формализованных институтов и разнообразных способов коммуникации, как показывают PR и маркетинг, может быть вполне эффективным.
Формализация – управление, или организация определенных процессов во времени. Работу по оформлению отношений выполняют институты, от традиций до организаций. При этом институт существует только за счет реализации отношений людьми, и с изменением этих отношений он также подвергается деформации. И если индивид не устанавливает отношений с группой напрямую (они реализуются через связи с индивидами), то институт действует одновременно на индивидном и групповом уровнях, организуя их в качестве неких целых и частей. Совмещение группового и индивидного уровней отношений в виде заданных повторяющихся действий позволяет управлять сообществом, но пересечение частных и общих связей в пользу отдельных индивидов и групп в такой конструкции неизбежно. Благодаря таким пересечениям происходит деформация функциональной работы любого института, и эти нарушения могут показать характер связей исследуемых сообществ.
Институциональное управление сообществом может быть двояким: управление настоящим и управление будущим. Управление настоящим затрагивает текущий момент, как у членов социальных сетей, друзей, коллег, соседей и т. д. Ситуация в группе поддерживает формальное равенство участников. Иной является стратегия управления будущим, которая для поддержания существования человеческих сообществ требует контроля групповых операций и практик с помощью формальной иерархии. Такой подход отличает партию от толпы, а бюрократию от веча. Структура управления – следствие многочисленности и плотности групп, регулярное взаимодействие которых нуждается в координации действий и порождает иерархию и неравенство62. Чем больше постоянных контактов, тем скорее вырастают формализованные институты.
То, в какой последовательности эти контакты осуществляются, придает институтам тот или иной вид. Действия общества становятся проективными, а социальная структура неравной. Поскольку те, кто непосредственно реализуют действия института, оказываются причастны одновременно индивидному и групповому уровням сообщества, они с неизбежностью реализуют властные отношения для поддержания присутствия своих индивидных и коллективных тел на вершине социальной иерархии63. Вот он, социальный капитал64, и его появление обусловлено не только личными связями индивидов, но и движением общества как целого, для нас выступающим объективно.
Эти два типа управления не стоят в линейной зависимости друг от друга. Разрастание сложности и институциональное закрепление какого-то типа определяется устойчивостью отношений и групп, их осуществляющих. Форма самоорганизации сообщества во времени является реакцией на плотность и многочисленность контактов, подтверждение чему можно найти на материале социальной эволюции. Например, небольшие сообщества первобытных собирателей были по своему устройству симметричными, управление группой затрагивало только текущий момент. Формализация управления действиями группы имела другой стороной природные циклы в виде заданной смены условий обитания. Относительно природы сообщество оставалось неподвижным во времени. Индивидуальная сложность коммуникации была, безусловно, высокой, но коллективная – низкой.
В случае иерархизированного общества наоборот: индивидуальная сложность низкая, а коллективная – высокая, так как она заранее учитывает присутствие иерархии и подчинение ей. Таким стало сообщество земледельцев: неравным, с иерархизированными институциями, чьи действия ориентированы не на следование природным циклам, а на их предупреждение и воспроизводство. Более того, такую же социальную структуру приобрели некоторые сообщества собирателей, бывшие многочисленными, с достаточной плотностью населения и постоянными контактами. Условием их институциональной трансформации были частота и постоянство контактов.
Отношения между индивидами и группами носят перманентный характер: участники принимают конфигурацию типичных связей сообщества в том виде, с каким сталкиваются в реальном времени. Ретроспективно мы приписываем людям какие-то свойства, секреты мышления, сущность души или цивилизации, которые «заставляют» нас поступать так, как мы поступаем. Но в повседневности «связь времен» осуществляется без нашего ведома. То есть для участников отношения всегда находятся в актуальном настоящем (что заставляет их повторяться), хотя в действительности ризома, вследствие активности участников, динамична и развертывается во времени неравномерно. Для участников актуальны отношения, а для отношений актуальны реакции участников. Прошлого наши связи «не помнят», будущего не знают, есть то, что есть сейчас. Непрерывность типичных отношений – вот что держит сообщество; а какие в нем будут тела и на каком языке они будут мыслить – важно только для этих тел. Взаимная политика сведения и совмещения коммуницирующих тел через собственное повторение принимает постоянную форму и получает название «традиции», отношение к которой становится ценностным независимо от обстоятельств.
Управление сообществом самим собой неизбежно воздействует на коммуникацию с другими сообществами. Если управление настоящим поддерживает симметричность отношений и относительную неизменность структуры коммуникации, то управление будущим делает коммуникацию сообществ более интенсивной. Возникновение формальной иерархии привело к исключительному усложнению человеческих отношений и практик. Группы, выстраивая структуру отношений внутри и снаружи сообщества, могут собственной практикой вовлекать в отношения остальные группы и их институты. Симметричная структура сообщества, управляющая лишь настоящим, не способна долговременно и целенаправленно поддерживать отношения с другими сообществами, тогда как иерархизированное сообщество может это делать, ибо контролирует больше вариантов взаимодействия процессов, которые инициируют индивиды. Безусловно, сеть как форма управления настоящим способна к созданию многочисленных связей в гораздо большей степени, чем иерархия, но она не в состоянии их контролировать и воспроизводить; иерархия движется медленно, но неумолимо. Взаимодействие структурированных сообществ всегда ведет к трансформации участников, и если пространство отношений и соответствующие возможности одного сообщества выше, то vis-а-vis будет поглощен, что и доказывается всей продолжительностью истории.
Симметричность присутствует только между участниками одного типа: например, только индивиды, только группы или только институты. В отношениях между группой и индивидом симметрии никогда нет. Симметричные отношения предполагают бессилие вождей перед группой в первобытности или государств перед внешним миром в современности. Если что-то и есть здесь равного, то это равная причастность общей структуре участников отношений. В сообществе, управляемом формальной иерархией, отдельные индивиды, группы, их институты могут превосходить других участников в объеме власти и степени ответственности и длительное время оставаться неподконтрольными. Однако перед сообществом как множеством они остаются бессильны, даже если способны проявить долю хитрости или жестокости, ибо если такие индивиды окажутся неспособны поддерживать существование сообщества, то последнее откажет им в легитимности.
Общество безлично управляет собой как целым: пределы возможностей групп и институтов определяются их конкурентами или союзниками. Участники, каковы бы ни были их возможности, никогда не контролируют все процессы или хотя бы один из них полностью. Возможности, получаемые участником, есть следствие причастности совместным процессам, а не наоборот. Адекватное управление отношениями позволяет концентрировать преимущества, но исходно несамостоятельное положение участника делает любые достижения временными. Однажды отношения части и целого заставляют участника измениться настолько, что это перестает быть рациональным для его локального существования. Поэтому изменения производят внешние процессы, а притязания участника удовлетворяются по остаточному принципу.
54
Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. С. 548—549.
55
Тард Г. Социальная логика. СПб.: Социально-психологический центр, 1996. С. 17—35, 178 – 202.
56
Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.; СПб.: Университет. кн., 2000. С. 274.
57
Спиноза Б. Этика. СПб.: Азбука, 1999. С. 253.
58
Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. С. 352.
59
Lyotard J.-F. Discourse, Figure. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2011. P. 236.
60
Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977—1978 учебном году. М.: Наука, 2011. С. 110—111.
61
Хайдеггер М. Бытие и время. С. 250.
62
Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.: ФЭИ, 1995. С. 30—32, 34—38.
63
Жувенель Б. де. Власть: Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. С. 166.
64
Бурдье П. Социология политики. М.: Социо-Логос, 1993. С. 211—217.