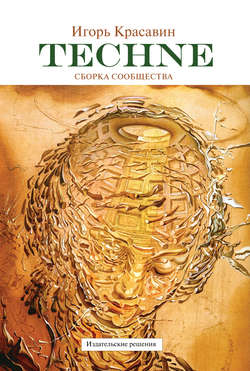Читать книгу Techne. Сборка сообщества - Игорь Красавин - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
ТЕОРИЯ
Глава 1
Рассуждения о методе
§3. Лучший из миров
ОглавлениеПоскольку всеобщее представляет интерес постольку, поскольку позволяет объяснить частное, а частное объяснимо лишь в контексте всеобщего, то их связь не может быть слиянием в тождестве.
Ф. А. фон Хайек. Контрреволюция науки
Итак, сообщества – это самоподобные самоорганизующиеся социальные множества. В каком бы аспекте мы ни стали рассматривать общество, от индивида до человечества, каждый раз целое будет иметь ту же форму, что и его части, и наоборот, форма частей будет иметь форму целого. Как следствие, процессы дифференциации индивидов и групп также подобны друг другу, несмотря на различия в языке, этничности и культуре. Размещение сообществ и социальных связей носит фрактальный характер. Все сообщества подобны друг другу тем, что это образования коммуникации людей; социальные отношения и процессы состоят из одних и тех же аспектов взаимодействия. Сообществами не движет «разум» или «дух», воплощаемый в специфических чертах культуры, технологии или знания. И все же разные сообщества имеют разную конфигурацию. Инверсивность и самоподобие отношений не исключают неравенства их осуществления. Как коллективные тела, сообщества стремятся поддерживать взаимосвязи друг с другом, и успешность их роста и развития напрямую зависит от того, какую конфигурацию отношений сообщества выстраивают внутри и вокруг себя.
Неравенство, или стратификация сообществ, задается теми социальными и пространственными условиями, в которых живут люди. Социальными факторами являются отношения индивидов и групп, которые, в зависимости от последовательности и размещенности процессов коммуникации, конструируют разные формы совместного общежития в пределах континентов, регионов, стран, городов, государств, организаций и прочих объединений. Момент неравенства очень важен, так как является определяющим условием, согласно которому процессы коммуникации принимают то или иное направление, а сообщество – ту или иную конфигурацию. Структура сообщества неравномерна, и потому одни и те же институты будут по-разному воздействовать на различные группы. Между тем современное институциональное устройство, методы изучения и управления исходят из противоположного. Предполагается, что люди равны, вступают в равные отношения, стремятся к равным целям и достигают равных результатов. То есть равное общество – это общество гомогенное.
Признание политического равенства людей (которое является следствием равенства по природе) с неизбежностью охарактеризовало устройство современного массового общества. Если ранее, вплоть до конца XVIII в., социальное строение представлялось в виде иерархии сословий, занятий, образа жизни, то с признанием политического равенства общество стали рассматривать относительно равным в любой его части. Этому способствовала позитивистская направленность общественных наук, заключавшаяся, по сути, в том, что отдельным эмпирическим явлениям стали присваивать свойства сущности и выстраивать вокруг этого методологию конкретных наук и дисциплин.
Такой подход позволил найти множество идеальных закономерностей, но описание общества как целого ему недоступно и заключается в банальной экстраполяции отдельных свойств, ценностей, процессов на всю гомогенизированную социальность, придавая им характер универсалий. Любые виды институциональных отношений стали доступны каждому, а люди одинаковы, значит, и рецепты для них можно выписывать общие. Вопросы структуры общества, его изменения в соответствии с заданными целями и поиск оптимального социального устройства теперь исходят из равенства и тождества как презумпции социальности. Если до этой мутации поиск оптимальных вариантов велся в условиях изначального неравенства условий, занятий, страт и главный вопрос заключался в том, как согласовать интересы социальных групп с их разной степенью влияния, то в течение XIX—XX вв. постановка и решение научных проблем приобрела другой характер.
В отличие от многих современных ученых Аристотель, Сюнь-цзы, Гуань-цзы, авторы индийских артхашастр, Фома Аквинский, Макиавелли и Адам Смит прекрасно представляли себе, что сообщество неравно и разделяется на разные уровни и формы социального – экономического и политического существования, присущего разным социальным группам, каждая из которых имеет свои интересы.
Люди живут в [определенном] порядке, они выдвигают одинаковые требования, однако добиваются их [осуществления] разными путями… если люди будут жить отдельно друг от друга, это приведет к нищете; но если даже они и будут жить вместе, но между ними не будет разделения, возникнут раздоры31. Дело в том, что следует требовать относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. Если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено; если даже этого и не случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет государством худшим, все равно как если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом32.
Основные формы описания общества были даны две с половиной тысячи лет назад. Многие читатели «Политики» обычно довольствуются рассуждениями о женщинах и рабах на первой странице и, за исключением деления политических режимов, в основном полагают воззрения Аристотеля на общественное устройство как минимум антикварными, как максимум – вздорными. И все же именно у него мы впервые находим эмпирическое и аналитическое изучение общества, обозначение основных форм институционального устройства социума и политических режимов, выделение экономики в отдельную сферу деятельности и, главное, связь социальной сегментации с формами участия в общих политико-экономических процессах. Взяв за образец устройство полиса, Аристотель был первым, кто смог дать целостное описание социального взаимодействия сообразно регулярным процессам коммуникации, формам практик, институционального устройства, интересам и обязательствам индивидов и групп перед политико-экономической жизнью сообщества.
Ввиду малого масштаба объекта исследования Аристотель описывает не просто устройство «общества вообще», он раскрывает социальные взаимосвязи как конкретные сообщества, которые структурируются не абстрактными принципами и не «процессами вообще», принимаемыми как данность, а практическими и повседневными действиями людей в определенных условиях. Эти действия индуктивно образуют коллективное тело социума, упорядоченное потребностями существования. Поскольку в ту пору социальный анализ еще не разошелся на отдельные дисциплины, общественная коммуникация описывается в экономических, политических, правовых аспектах одновременно. Благодаря такому шагу предметом аристотелевского исследования становятся не отдельные процессы, а структура институциональных отношений сообщества в целом, которая в зависимости от конкретной ситуации подвергается тем или иным изменениям.
Постоянство социальных позиций и ролей, занимаемых членами общества, позволило провести анализ вертикальных и горизонтальных взаимодействий индивидов и групп и отразить их результаты в формах политико-экономических режимов различных сообществ. Проводя деление на крестьян, торговцев и аристократов, Аристотель исходит из того, что, несмотря на формальное политическое равенство, социальное положение каждого из них связано с определенным набором характеристик, сформированных отношениями родства, собственности, деятельности, статусной ответственности и влиянием, которое они оказывают на остальные группы. В частности, еще до обсуждения известного деления политических режимов Аристотель показывает, что социальный статус не может быть передан представителю другой институциональной группы без трансформации окружающих отношений.
Примером служит появление буржуа, занимающихся массовым производством или торговлей33. Накапливая большие богатства, торговцы получали возможность влиять на принятие политических решений, дотоле находившихся в компетенции аристократов. Статус последних держался не только на принадлежности к числу благородных, но и на зависимости от работы в коллективных интересах сообщества, к которым относились отправление правосудия, участие в войне и принятие политических решений. Нарушение этих условий по факту лишало аристократа его статуса, хотя родовая принадлежность сохранялась. Иной была ситуация буржуа, богатство которых копилось за счет индивидуально-ориентированных действий, и, следовательно, они не несли ответственности перед коллективными интересами общества. Поэтому приход к власти буржуа в греческих городах приводил, как правило, к тирании или олигархии. Данные политические режимы центрируют политико-экономическую организацию общества вокруг частных интересов узкого круга лиц, тогда как интересы социума ставятся в подчиненное положение.
Схожим образом трактуется деление на политические режимы, которые определяются тем, какая социальная группа приходит к власти34. Каждая институционально оформленная группа держится за регулярно повторяющуюся деятельность социально-экономического характера, которая задает масштаб мышления, интересы и способы принятия решений. Осуждение демократии как власти толпы исходит из того рационального факта, что лица, не имеющие длительных экономических и политических интересов и не причастные длительным социальным процессам, каковыми являются политическое и экономическое управление, не смогут преследовать долгосрочные цели сообщества, а многочисленность участников снизит эффективность коммуникации. Таким образом, представляя формы социальной организации, Аристотель исходит не из вневременных характеристик человеческой сущности, коими могут являться вера, свобода, порядок или индивидуальные качества. Напротив, он распределяет социальные позиции в зависимости от пересечения индивидуальных и коллективных связей, интересов и влияния, создаваемого процессами, к которым приобщаются те или иные участники.
Такая расстановка позволяет Аристотелю связать процессы индивидуальной социальной жизни с групповой и определить соответствующие формы влияния на институциональную структуру в политике и экономике. Ему удалось показать системные формы политических и экономических отношений в качестве результатов общей социальной коммуникации, а знание характеристик каждого типа участника и процессов, в которые он погружен, позволило определить последствия, наступающие в сообществе под воздействием каждого типа экономического и политического режимов. Аристотель впервые выделяет экономику как отдельную область познания и фиксирует взаимосвязи, которые отражаются на обществе в зависимости от формы экономической организации35.
Традиционной аграрной экономике во главе с аристократами противопоставляется экономика, организованная капиталистически, на основе индивидуальных интересов обладателей наибольших богатств. Если первая форма базируется на разделении капитала и власти, повторяющейся организации деятельности, то вторая исходит из необходимости умножения прибыли и полагает допустимым трансформационное воздействие капитала и власти отдельных индивидов и групп на статус и деятельность остальных членов общества.
Социальному познанию аристотелевская система дает пример структурно дифференцированного описания общественных взаимосвязей, где соотнесены процессы, позиции и интересы участников. В результате мы имеем описание не только того, как, по мнению Аристотеля, должно быть устроено общество, но и вариаций его устройства в зависимости от структуры отношений. Необходимо учесть, что, описывая дифференцированную социальность, Аристотель находит эмпирическое подтверждение для каждого типа социального взаимодействия и его институционального воплощения. То есть в реалиях античного общества IV в. до н. э. он дал верифицированное описание общества, исходя из множественной природы отношений самоподобных участников в рамках занимаемых ими социальных позиций.
Независимо от Аристотеля и впервые раскрыв не только существование экономики, но и ее системное устройство, способы управления институциональной структурой общества дали авторы древнекитайского трактата «Гуань-цзы» в эпоху Сражающихся царств и династии Хань (IV—II вв. до н. э.). Аристотель в большей степени рассматривает общественное устройство и его колебания применительно к анализу политических режимов, ведя заочный диалог с Платоном о том, что «понятия „государственный муж“, „царь“, „домохозяин“, „господин“ суть понятия нетождественные». В «Гуань-цзы» общественное устройство исследуется применительно к анализу экономического управления, и задолго до физиократов показано, что экономика является системой отношений, реагирующих на процессы коммуникации людей. Реакция экономической системы носит самоорганизующийся характер и предопределена наличием пропорций и занимаемых участниками позиций в институциональной структуре отношений. Действия людей, спонтанные и целенаправленные, вносят колебания, которые, массово повторяясь, дестабилизируют и организуют позиции разных социальных групп: чиновников, крестьян, торговцев и ремесленников. Спонтанные изменения в социальной системе могут корректироваться и управляться в состоянии динамического равновесия при согласованной организации отношений, поддерживая такой институциональный порядок, который не позволяет изменениям быть слишком резкими.
Рынок – это то, по чему узнают порядок и беспорядок [в состоянии хозяйства]; по рынку можно судить, много ли чего-нибудь или мало и нельзя ли сделать так, чтобы было много или мало… Если различаешь между избытком или недостатком, то тогда все виды хозяйственной деятельности выравниваются… При управлении государством тот, кто не понимает принцип уравновешивания [в хозяйстве], не может охватить своей властью регулирование интересов народа… Бывают годы скудные и обильные… Распоряжения бывают оказывающие медленное и быстрое воздействие, и потому вещи могут быть дешевы или дороги. Но вот государь не может все это привести в порядок, и потому купцы-богатеи у него [творят] разгул на рынке и, используя недостаток средств у народа, умножают во сто крат свое состояние… Между тем если народ богат, то невозможно заставить его служить за жалованье, а если он беден, ему не внушить страха наказания. И если законы и административные распоряжения не имеют силы, если масса народа не подчиняется управлению, то причина этого заключается в отсутствии уравновешивания [богатства и бедности]36.
Как и Аристотель, «Гуань-цзы» исходит из необходимости ограничения чрезмерного богатства и чрезмерной бедности, поскольку это нарушает устойчивость сообщества. Взаимная заинтересованность и ограничение участниками друг друга, напротив, придают институциональной структуре отношений дееспособность, что позволяет реализовать интересы всего сообщества и упрочить его вариативное общение. Этому требованию соответствует присутствие многочисленного среднего класса, людей, чьи интересы и цели достаточно долгосрочны, кто заинтересован одновременно в динамике и в устойчивости отношений, чьи властные притязания не абсолютны и могут корректироваться. Но как бы ни были искусны подобные советы, сочинения типа «Гуань-цзы», «Артхашастры» считались, в основном, ересями; Аристотель стал для античности не правилом, а исключением. Схожая судьба постигла и сочинения Макиавелли. Доминирующей общественной идеологией выступало представление о неизменных образцах почитания идеалов, ритуалов, личной мудрости, божественного провидения и прочих формах патернализма, что характерно для традиционных обществ, независимо от того, западные они или восточные.
Бурное развитие Европы Нового Времени в XVIII в. вновь вызвало интерес к анализу устройства политико-экономической системы общества и его связи с социальной структурой. К мыслям, схожим с воззрениями Аристотеля и «Гуань-цзы», пришел А. Смит две тысячи лет спустя. Помимо широко известной идеи разделения труда как одного из основополагающих экономических процессов, важным замечанием Смита был анализ устройства общественных связей и тех инструментов влияния, которыми обладает каждый из участников. Социальные позиции крестьян, ремесленников и буржуа оцениваются, исходя из многочисленности этих групп, форм их повседневной деятельности, интересов и предпочтительных практик. Смит обращает внимание на то, что эти сегменты в ходе социального взаимодействия могут быть «собраны» по-разному, и воспроизводит уже известное противопоставление Аристотеля традиционного общества капиталистическому37.
В традиционной социальной структуре основной общественный интерес задается крестьянами и ремесленниками как самыми многочисленными группами. Буржуа (торговцы и банкиры), которые их обслуживают и связывают общими сетями обменов и кредита, более влиятельны и богаты. Однако интересы других групп не могут быть, по мнению Смита, принесены в жертву интересам олигархии, поскольку это приведет к обогащению последних за счет остальных участников. И он был вовсе не одинок в таком мнении, напротив, интеллектуалы и бюрократы Просвещения мыслили так же38. В XX в. на этом положении настаивал В. Ойкен, но общественность в данном вопросе больше волновали темпы промышленного роста.
А. Смит рассматривал капитал не только как синоним богатства, но прежде всего как инструмент социальной организации39. Использование этого инструмента в интересах большей части общества ведет, по мысли автора, к его процветанию. Имеется в виду, что употребление капитала в данном случае задается нуждами частных и коллективных земледельческих и ремесленных хозяйств, обслуживающих местные рынки. Другой путь определяется крупной экспортной торговлей, которая за счет кредита увеличивает хозяйства и создает мануфактуры. С увеличением объемов производства и снижением операциональных издержек понижаются цены на товары, но одновременно ремесленники и крестьяне лишаются привычных способов существования, рынков, что ведет к их разорению и деформации общественных отношений.
Теория Смита не учитывала жестокую статусную конкуренцию между разными странами, поддерживающуюся при помощи экспортной торговли. Его ныне менее известный современник И. де Пинто указывал, что успех в этой борьбе невозможен без концентрации капитала, посредством государственного долга собираемого с частных финансистов и оплачиваемого высокими налогами. Имеется в виду второй способ употребления капитала, при котором достаточные гарантии буквально из ничего умножают его в несколько раз по сравнению с номинальной величиной: «разница всего в полпроцента решает все дело»40. Более того, Пинто продемонстрировал способность финансового рынка к циклической самоорганизации и преодолению неравномерности распределения доходов в виде поочередных взаимных банкротств чрезмерных должников и заимодавцев (а именно в проблеме бесконечной задолженности упрекали капиталистов). Хотя второй способ употребления капитала создает крайне неравную социальную структуру, он, в отличие от модели Смита, позволяет сообществу проводить активную экспансию, оказывая экономическое и политическое воздействие на другие страны. Коммуникативные способности сообщества раскрываются, позволяя ему достраивать себя, получая отсутствующие прежде возможности и ресурсы41.
Несмотря на признание А. Смита классиком и одним из родоначальников экономики как науки, последующие авторы оставили в стороне тезис о воздействии на общество различных способов центрации социальных отношений и позиций участников. По причинам экономического и политического доминирования западных капиталистических стран, прежде всего Великобритании, над более многочисленными и богатыми восточными традиционными сообществами представители классической политэкономии принимают капиталистическое устройство общества как само собой разумеющееся и основной упор делают на организации политической свободы, детализации экономических процессов и вере в функциональный рационализм как основание социализации42.
В частности, Д. Рикардо и Дж. С. Милль прежде всего обращают внимание на разделение труда и организацию производства; капитал рассматривается как ресурс производства, а не социальной организации. Возможность политического равенства отношений, которую в конце XVIII в. увидела образованная публика, способствовала появлению представлений о рациональном и равно упорядоченном обществе43. Теории утилитаризма И. Бентама и позитивизма О. Конта явились онтологическим и практическим обоснованием идеи гомогенности общества. Методологически представление о гомогенности, линейности общественных отношений было определено логическими постулатами классического естествознания, и А. де Сен-Симон собирался «проложить новый физико-математический путь человеческому пониманию». Все вместе это привело общественные науки к представлению о равном воздействии процессов коммуникации на общество как бесконечно повторяющихся и бесконечно равных законов.
Вслед за И. Кантом науки взялись за поиски общих трансцендентальных условий, находя для каждого аспекта общества ту или иную идеальную структуру. Для начала социальные науки занялись поиском вечного двигателя – такого идеального социального, экономического и политического устройства, которое было бы равновесным, а следовательно, однообразно управляемым с помощью институтов типа свободного рынка или государства, одинаково воздействующих на аудиторию. Не найдя такового, науки все более переключались на решение узкоспециальных вопросов и оптимизацию работы отдельных общественных институтов, деятельность которых, как считается, в равной мере отвечает всем интересам всех людей. Как следствие, возрастал прикладной, практический аспект исследований, вопросов и решений, тогда как теория принимала академический характер, иначе говоря, становилась «болтовней».
Однако время от времени социальные процессы подкидывали каверзные вопросы, например почему сообщества развиваются по-разному; почему люди не могут изменить обстоятельств своего существования, даже если прекрасно осознают их; почему пороки неискоренимы; почему одни богатеют, а другие беднеют и т. д. Не найдя ответов, оставалось лишь развести руками и объявить о принципиально неразрешимой загадке общественного устройства либо толковать что-то такое о «культуре», «традициях» и прочих воплощениях духа, наконец, пользоваться стереотипами и приписывать разным народам и социальным группам какие-то особенные свойства, предопределяющие какой-то особый путь существования.
В ходе исторического процесса институциональное устройство общества изменялось, реагируя на существовавшие практики, но научное объяснение этому исходило из идеальной структуры отношений, в равной мере согласующей условия, интересы и возможности сообществ – индивидов, групп, стран и народов, вне зависимости от условий их существования и позиций во взаимной коммуникации. В работах Г. Гегеля, О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера и Т. Парсонса объяснение социального развития синтезировало теоретические представления о взаимосвязанности общества как целого, но попытки выйти на поверхность повседневной реальности оборачивались апологией собственного или желаемого социального порядка. Теоретически все сообщества были равны, практически – различны. Ситуацию сообществ, неравно реализующих «равные» возможности, стали имплицитно объяснять «развитием» и «отсталостью», корни которых также имплицитно усматривались в культуре народов, а границы – в пределах национальных государств.
Попытки обойти недостатки концепции тотального общества – в виде практик Э. Гидденса, П. Бурдье – оказались небезынтересными и немало поведали об устройстве общественных отношений, но и они содержали в себе неустранимые недостатки. В частности, эти концепции не в состоянии объяснить одновременные сходство и различие практик, их содержательные и формальные изменения, то есть динамику и границы. Политические теории группировались вокруг идеологических партий, отстаивая правоту консерватизма, либерализма, марксизма, фашизма в пользу отдельных групп; обслуживали бюрократию, занимаясь теоретизированием администрирования внешней и внутренней политики, либо сосредоточивались на отдельных аспектах политических отношений, будь то геополитика, борьба партий и т. д. Попытки создания синтетических теорий К. Маркса, М. Вебера группировались вокруг частных институциональных аспектов, а теории общественной организации В. Парето и Г. Тарда, по сути, не получили продолжения.
В схожем положении оказались и экономические теории. А. Маршалл смог объяснить внутреннее устройство экономики на макро– и микроуровнях, но лишь функционально, оставив за скобками социальное устройство и политические отношения. Экономические теории были в состоянии описать отдельные формы структурирования процессов – центрированных государством, в случае Дж. М. Кейнса, или децентрированных рынком, как у М. Фридмана, но лишь до тех пор, пока институциональная структура не переставала работать. Попеременно каждая из них пробовала себя в управлении обществом и оказывалась в тупике как теоретического, так и практического характера. Признание Й. Шумпетером важности анализа динамики общества, а Д. Нортом влияния институтов не привели к обобщающим синтезам, одновременно реализуемым на уровне теоретического определения и практического управления.
Тело общества функционально упорядочено посредством институтов и организаций, но равенства исполнения функций как не было, так и нет, и многие хорошие теории оказались бесполезными вследствие такой банальности. К. Маркс, разделяя мнение Смита об изначальном социальном неравенстве, употребил всю свою интеллектуальную мощь на создание модели равновесной социальной системы, способы практического осуществления которой так и остались туманными. При попытках совместить научные и практические данные в междисциплинарных исследованиях оказалось, что чего-то очень существенного не хватает. Ускользала сама социальная структура, теоретическая и практическая, поскольку оставалась без внимания коммуникация сообществ – людей, приводящих в движение все микро– и макропроцессы в ходе своего обустройства.
Стремление к любым формам гомогенизации – это локальные стратегии управления. Их нельзя использовать исходя из якобы уже имеющегося равенства и тождественности интересов или предположений, что социальные институты в равной мере воздействуют на всех людей. Исходно неравное положение индивидов и сообществ делает попытки институциональной фиксации политического и экономического равенства временными: неудача свободного рынка, коммунизма и государства благоденствия тому примеры. Следовательно, необходимо понять, какие объективные процессы социальной коммуникации взрывают неравенство; и последующая стратегия должна исходить не только из минимизации неравенства, но и его неизбежности. Сделать это ввиду того, что общественные науки носят не только непосредственно научный, но и политический характер, будет нелегко, но необходимо.
В свете вышеприведенных рассуждений анализ сообщества предстает небезнадежным, хотя и запутанным. Последующее изложение состоит из трех частей. В первой части рассматривается теория сборки сообщества. Теоретический анализ процессов дифференциации задает общее понимание социальной коммуникации и ее основных свойств. Там же введены условия, поддерживающие неравенство с помощью специфических типов организации сообщества. Далее приведены основные формы социальной коммуникации. Уточнение иерархической структуры сообщества покажет особенности взаимоотношений ее различных уровней и связанные с ними рациональные интересы и притязания участников. После описания иерархии будут названы те средства, с помощью которых институциональная структура остается способной к устойчивости и вариативным изменениям. Вооружившись этими познаниями, мы приступим к их синтетическому сведению на материале социальной эволюции, раскрытие которой произойдет в виде дифференцированных процессов самоорганизации сообществ в их общих и различных исторических обстоятельствах. Для адекватного понимания изложение эволюции придется разбить на собственно аналитическую, понятийную составляющую и краткий конспект исторического процесса, во всяком случае тех его моментов, которые, не будучи исчерпывающими, все же оказали значительное влияние на организацию и развитие сообществ Евразии и всего мира.
Вторая часть посвящена более детальному изложению и анализу исторических событий, процессов политико-экономического взаимодействия и социальной организации с начала цивилизации вплоть до XIX в., когда в глобальном масштабе была институциализирована капиталистическая организация сообществ. Третья часть анализирует современную эволюцию некоторых из сообществ в рамках мировой капиталистической системы отношений, акцентируя внимание на тех моментах, в которых дифференцированный характер коммуникации выступает наиболее рельефно. Ближе к концу изложение истории прошлого трансформируется в анализ будущего, что, по некоторому размышлению, видится отнюдь не лишним. В заключение всего корпуса текстов повествование вернется к проблемам теории и практики сборки сообщества, из обсуждения которых будут сделаны некоторые выводы.
31
Сюнь-цзы. Обогащение государства. Цит. по: Феоктистов В. Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. М.: Наука, 1976. С. 202.
32
Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2002. С. 58.
33
Аристотель. Политика. С. 39.
34
Там же. С. 108—115.
35
Поланьи К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2010. С. 134.
36
Гуань-цзы. Об управлении государством; О накоплении в государстве. Цит. по: Штейн В. М. Гуань-цзы. Исследование и перевод. М.: Изд-во восточ. лит., 1959. С. 256, 286.
37
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1993. С. 212—221, 390—392.
38
Rothschild E. Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment. Cambridge, 2001; Reinert S. Translating Empire: Emulation and the Origins of Political Economy. Harvard University Press, 2011.
39
Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: что получил в наследство XXI в. М.: АНО «Институт общественного проектирования», 2009. С. 33.
40
Pinto I. de An Essay on Circulation and Credit, in four parts; and a Letter on the Jealousy of Commerce. From the French of Monsieur de Pinto. Tr., with annotations, by the Rev. S. Baggs, M. A. (London, J. Ridley, 1774). P. 10—11.
41
Pinto I. de An Essay on Circulation and Credit..P. 17—20.
42
Boltanski L., Thevenot L. On Justification: economies of worth. Princeton University Press, 2006. P. 43—61.
43
Вагнер П. Социальная теория и политическая философия // Логос. 2008. №6.