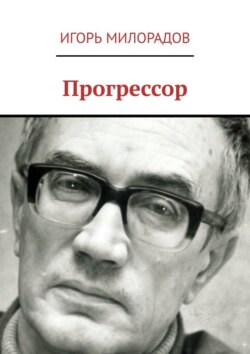Читать книгу Прогрессор - Игорь Милорадов - Страница 4
Теория поколений
«Из политехнического меня исключали два раза…»
Воспоминания о студенческой жизни
ОглавлениеДорогой Геннадий Антонович!
По Вашей просьбе рассказываю несколько историй из моей студенческой жизни. Историй, которые сегодня выглядят забавно, но в свое время они такими вовсе не были. Почти у каждой из этих историй есть маленькая мораль, и я некоторые из них с удовольствием рассказываю своим нынешним студентам – в воспитательных целях. Чтобы они научились делать выводы из того, что с ними происходит. И не делали слишком поспешных и трагических выводов из происходящего, даже если вначале оно кажется им трагичным.
Александр Акимович Воробьев
Меня исключали из института несколько раз. Два раза – вполне серьезно. И оба раза судьба моя пересекалась с тогдашним ректором – знаменитым на весь Томск и Сибирь Воробьевым Александром Акимовичем. Первое мое несостоявшееся исключение случилось в 1956-м, когда я был всего лишь абитуриентом. Я благополучно сдал два из пяти положенных в ту пору вступительных экзаменов, когда на медкомиссии, которую я проходил параллельно с экзаменами, окулист заявил, что в техническом вузе мне учиться нельзя из-за плохого зрения, что я-де не выдержу работы с чертежами и скоро стану инвалидом по зрению. Иди, сказал он, в университет, там попроще будет. Наверное, он был в чем-то прав, да и медицинские нормы требовали от «технарей» хорошего зрения. А у меня было, как помнится, минус пять с половиной, наполовинку больше, чем допускалось. Я, конечно, сходил в университет, чтобы познакомиться. Не знаю, что бы со мной было сегодня, если бы я окончил университет, а не «политех», но случилось вот что: в главном корпусе университета тогда шел ремонт, и мне из-за этого пустяка университет абсолютно не понравился! Разве можно было сравнить шикарный главный корпус ТПИ с его мраморным входом и главный корпус университета с его линолеумом и строительными лесами!? Да никогда! И тогда я написал заявление на имя А. А. Воробьева, в котором, как мог, объяснил ситуацию. И через день получил совершенно царскую резолюцию: «Пусть учится», – написанную почти нечитабельным почерком ректора. Вот так и вышло, что я все-таки кончил политехнический, а не университет. Мораль этой истории проста, как валенок, но я ее запомнил на всю жизнь как руководство к действию: молодым людям всегда надо давать шанс проявить себя, даже если при этом нарушаются некие ведомственные инструкции. И я это делал всегда, когда сам стал начальником, от которого зависят судьбы молодых людей.
У этой истории было забавное продолжение. В 61-м, после окончания института, кафедра хотела оставить меня в институте, но не на самой кафедре, а в НИИ ядерной физики. И мне надо было для приема на работу снова пройти медкомиссию. Институтскую, которая одновременно проверяла и абитуриентов. И что вы думаете? Окулист, может быть, тот же самый, приняв меня за абитуриента, снова заявил, что учиться мне в техническом вузе нельзя, что я в нем потеряю зрения и стану инвалидом… В общем, история почти повторилась, но в виде фарса. Но, может быть, именно окулист «виноват» в том, что я не остался в НИИ, а пошел на работу в Томский филиал ВНИИЭМ. О чем нисколько не жалею, ибо опыт, приобретенный там, сыграл огромную роль в моей профессиональной жизни. Забавно и то, что через три года я таки оказался в НИИ ЯФ, но уже в его аспирантуре. Пути господни, понял я, действительно неисповедимы!
Второй раз меня исключали из института на пятом курсе, в пору дипломирования – редкий случай в вузовской практике. Причина была простой и вместе с тем сложной. Диплом я делал по ударному генератору, этой темой тогда «болела» вся кафедра и ее заведующий, Сипайлов Г. А. А практику должен был проходить на заводе «Сибэлектромотор» у Э. Гусельникова (впоследствии доктора наук и профессора). Естественно, на заводе никто и понятия не имел об ударных генераторах, и задача моя, как я ее понял, состояла в том, чтобы за время практики подготовить комплект чертежей на двигатель, в габариты которого предполагалось «вписать» впоследствии рассчитанный мною ударный генератор. У меня на это дело ушло недели две-три, а потом я перестал ходить на завод, полагая, что свою задачу выполнил. Не помню теперь, согласовывал ли я это дело со своим руководителем, а им был К. Хорьков, много позже ставший и доктором наук и профессором, кстати сказать, как раз по ударным генераторам. Скорее всего, я проявил полную и малополезную самодеятельность, которая закончилась тем, что деканат решил меня исключить – за нарушение графика учебного процесса и, как это принято, в назидание другим. По «наводке» того же Э. Гусельникова, который почему-то сильно обиделся за свой завод: какой-то студент заявляет, что на этом заводе, видите ли, ему нечего делать! Решающую роль, однако, как мне тогда казалось, сыграли мои неприязненные отношения с одним из заместителей декана, который задолго до того «точил на меня зуб». Так ли, нет, теперь уже не узнать, да это и не слишком важно. Важно другое: я снова оказался в приемной А. А. Воробьева. И попал к нему на прием. Он при мне позвонил Г. А. Сипайлову, о чем-то с ним поговорил, а потом, уставившись на меня, сказал: «Что-то, молодой человек, я не вижу, что вы так уж хотите учиться в институте…». На что я ему нагло так заявил: «Мне что, Александр Акимович, на колени перед вами пасть, чтобы доказать обратное?» Основания для такой наглости, как мне казалось тогда, у меня были – мы с лучшим моим в ту пору товарищем – Ю. Галишниковым (теперь доктором наук и профессором) – твердо решили бросить этот «проклятый» институт и податься на строительство Братской ГЭС, чтобы познакомиться с жизнью в гуще этой самой жизни. Ректор, похоже, несколько оторопел от такого нахальства, а по некоторому размышлению сказал: «Ну ладно, ступайте – учитесь». И я пошел. И закончил-таки институт. Мораль у этой истории тоже есть: у молодых наглость – иногда всего лишь следствие безысходности. И взрослый человек должен уметь это видеть и прощать. Этим простым правилом я потом пользовался всю жизнь, защищая студентов даже в тех случаях, когда они, по мнению многих и моему тоже, вели себя предельно нагло. И многим моим студентам это помогало выжить, вопреки обстоятельствам и собственному излишнему самомнению.
Было у этой истории и несколько любопытных следствий. Первое: на собрании в группе по случаю моего исключения мои товарищи яростно защищали меня, а в ответ деканат в качестве одного из аргументов использовал… мою школьную характеристику, в которой среди прочего говорилось, что я «по характеру – замкнут». Это – в ту пору – было истинной правдой, но правда и то, что я до сих пор не понимаю, какова связь между моей замкнутостью и «недостойным поведением на практике». Когда, много позже, я сам получил право подписывать характеристики на других людей, студентов в том числе, я принципиально не подписывал те из них, в которых отмечались «дурные» якобы стороны характера того или иного человека. Я-то знал, как можно использовать характеристику в качестве орудия давления на неугодного. Полезный опыт, не правда ли? Второе: мой диплом на рецензию попал к тому самому Э. Гусельникову с «Сибэлектромотора». Рецензия была написана на шести, если мне память не изменяет, страницах и содержала аж 28 существенных, по мнению рецензента, замечаний. Никогда в жизни после этого я не видел подобных рецензий, хотя и проработал в вузах почти сорок лет! Мне это нисколько не помещало защитить диплом на «отлично»: рецензент, вполне очевидно, перестарался – большое количество замечаний позволило мне на защите развернуться во всю свою тогдашнюю силу. Небольшую, но достаточную, чтобы председатель ГЭК (Нэллин В. И., мой первый директор, у которого я работал, а потом и замминистра электротехнической промышленности СССР, один из моих учителей «по жизни») отметил мою защиту в заключительном слове. Мораль проста: паши – и тебе многое простится. Даже твои «дурные» свойства характера. Третье: через много лет, уже после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, в том же НИИ ЯФ у одного из аспирантов я обнаружил свой диплом в качестве некоего пособия. Переплет был давно порван, и диплом состоял из отдельных листков, которые я собрал и теперь храню дома. В память об институте и моем ректоре А. А. Воробьеве. Вот такие странные воспоминания и связанные с ними ассоциации возникают у меня, когда я слышу эту фамилию.
Геннадий Антонович Сипайлов
Геннадий Антонович был моим первым, после школы, настоящим учителем, чувство благодарности к которому во мне никогда не умирало. Меня до сих пор потрясают его способности отличать плохих людей от хороших, умных от не очень умных, перспективных от безнадежных. Если с годами я и сам научился двум первым способностям, то последняя – о перспективе – так и осталась для меня тайной за многими печатями. А ведь именно эта способность – первопричина массы докторов наук, вышедших «из-под» Г. А. Сипайлова! Но тут я хочу рассказать о двух других качествах Геннадия Антоновича, о которых частенько вспоминаю, а одно из них даже пытаюсь перенять. Речь о том, как он читал лекции. Это было совершенно удивительное зрелище и слушаще, если так можно сказать о лекции. Он читал нам два курса – «Электрические машины» (на 3-м курсе института) и «Проектирование электрических машин» (на 4-м курсе). И оба раза эффект воздействия лектора на меня был совершенно потрясающим. Причина такого воздействия мне долгое время была непонятна, пока я сам не начал читать лекции и не разобрался, в чем дело.
У нас, должен сказать, было много хороших лекторов. Вот, например, в одном из семестров Г. А. Сипайлова частенько замещал Е. В. Кононенко, ставший потом и доктором наук, и профессором. Читал он, откровенно скажу, хорошо – грамотно, гладко, понятно. Но после Г.А. удивительно скучно было его слушать! Сначала я думал, что все дело в эмоциях: Геннадий Антонович – человек ведь куда более эмоциональный, чем Кононенко. Это было видно и невооруженным глазом. Но это было только то, что лежало на поверхности. На самом деле, как я понял позднее, разница была совсем в другом. Разница была в той энергии, биоэнергии, как говорят сегодня экстрасенсы, которую буквально излучал на слушающих наш Геннадий Антонович. Теперь я точно знаю, что для того, чтобы держать студентов в руках два или четыре часа, мне надо перед лекцией сильно сосредоточится. И, боже упаси, не на предмете лекции – его любой лектор знает прекрасно, а на самом себе. Надо собрать в себе столько этой самой биоэнергии, чтобы ее хватило на всю аудиторию и на все время лекции. Мне кажется, что Г. А. Сипайлов такой своеобразной медитацией занимался всегда, перед каждой лекцией. И в этом была причина того, что студенты его обожали. Должен, правда, сказать, что при таком подходе после каждой лекции наваливается усталость, совершенно сумасшедшая, от которой даже говорить не хочется. Может быть, это все мои выдумки, но, насколько знаю, я и сам произвожу на аудиторию примерно такое же впечатление, как Г. А. Сипайлов. Не такое мощное, конечно, но качественно – такое же. Не знаю только, можно ли этому подходу научить других, или это своеобразный дар Божий. Но я, по-моему, именно научился. И научился, вспоминая Г.А.
А еще я каждый год на первой лекции говорю своим студентам примерно следующее: вам, ребята, говорю я, немножко не повезло – лекции вам будет читать заведующий кафедрой, а у него много всяких разных дел, поэтому я буду иногда опаздывать. Вы должны сидеть и тихо ждать – я обязательно буду, насколько бы ни опоздал. А дальше, в качестве примера, рассказываю историю о том, как опаздывал на наши лекции Геннадий Антонович. Было это, по-моему, в 60-м, когда он читал нам курс проектирования. В ту пору, если я правильно помню, он проводил какие-то наладочные работы в НИИ ЯФ на синхротроне «Сириус», магнитную систему которого он сам и проектировал. И по этой, как я понимаю, причине опаздывал на каждую лекцию на несколько минут. Мы из окон 10-го корпуса, где проходили занятия, хорошо видели, как наш Г.А. торопится к нам. И никогда не уходили, потому что знали – он обязательно будет. А потом я обычно добавляю несколько слов о том, кто такой Г. А. Сипайлов, как он читал нам лекции и чем он знаменит. Пробрасываю таким образом связь времен, чтобы молодые знали, на каких людей опирается их курс.
Вот, если коротко, кое-какие мелочи о Г. А. Мы с ним, понятное дело, люди разных поколений, и личного общения у нас было немного, хотя мы и были позднее соседями по лестничной клетке. Даже перед его знаменитым рабочим столом на кафедре я стоял, по-моему, всего однажды – когда проходил «входной» контроль перед защитой дипломного проекта. Стол, помнится, был необъятных размеров, и на нем легко размещались все мои чертежи, но знаменит он был вовсе не этим, а тем, что в его необъятные внутренности Г.А. без видимого порядка бросал всякие запросы из многочисленных вышестоящих институтских инстанций. По свидетельству очевидцев, когда приходило время на них отвечать, Г.А. со словами «Материя не исчезает!» приступал к длительному поиску нужной бумажки, хранящейся где-то в недрах стола. Все это, конечно, мелочи, тут важно другое: что-то от Геннадия Антоновича перешло в меня, а через меня – в моих студентов. Это уже немало, по-моему.
Олег Борисович Толпыго
Олег Борисович Толпыго заведовал кафедрой теоретических основ электротехники и читал нам лекции по ТОЭ. Мы сдавали ему два экзамена и дифзачет, и все три сдачи для меня памятны. Каждая по-своему. О существовании Толпыго мы, я в том числе, узнавали в общаге еще до того, как попадали на его занятия, – каждый электрик знал, что впереди у него будет такой страшный курс – ТОЭ. А сдавать его придется О. Толпыго – буквально «зверю» в человеческом облике, которого на кривой козе не объедешь. Но зато, если сдашь ему экзамены, то можешь считать себя инженером на 100%! Действительность оказалась куда интересней.
Лекции Олег Борисович читал блестяще, почти как Г. А. Сипайлов. У него тоже была мощная энергетика, достаточная, чтобы легко держать в руках аудиторию в две сотни человек – весь поток. Писались лекции легко и с удовольствием, но на экзаменах и в самом деле возникали забавные случаи. Помню, перед первым экзаменом валяюсь я на своей кровати в общежитии и что-то там читаю. А кровать в общежитии, все знают, была не просто кроватью, но и столом, и стулом, и диваном, потому как в комнате, кроме кроватей, размещался еще только один небольшой стол, за которым разве что обедали иногда. И подходит к моей кровати мой товарищ по группе Алнис Ванагс, латыш из репрессированных, ныне покойный – погиб несколько лет назад в автокатастрофе. Им, репрессированным и членам семей (из Прибалтики и Западной Украины), в 56-м, помнится, чуть ли не впервые разрешили поступать в институты, и у нас на потоке таких было вполне достаточно. Чаще всего они были старше нас, вчерашних школьников, учились с большим старанием и прилежанием. Алнис тоже был постарше меня – лет, наверное, на пять. И вот стоит он, прислонившись к спинке моей кровати, и говорит: «Пошли, что ли, на экзамен…». Я что-то отвечаю и вдруг чувствую, что моя кровать как-то странно вибрирует и издает даже какие-то звуки. Землетрясение, что ли, думаю я, а потом соображаю, что это сам Алнис вибрирует – от нервов, а его вибрация передается и кровати! Смеяться я, конечно, не стал – мы были с Алнисом друзьями и частенько резались в шахматы. Тот первый экзамен Толпыге мы благополучно сдали. Я – на «отлично». Это, как будет видно из дальнейшего, важный момент моего рассказа. На втором экзамене у меня случилось вот что. Олег Борисович принимал экзамены самым оригинальным образом: в большой аудитории вдоль стен расставлялись доски. Перед каждой готовился к ответу один студент, а сам преподаватель разгуливал вдоль этих досок, по очереди подходя к каждому из нас. Когда мой ответ был готов и написан на доске, Толпыго его просмотрел и тут же на доске нарисовал мне задачку. Помнится, по переходным процессам. А сам двинулся вдоль досок. Через минуту примерно он снова оказался передо мной и спрашивает: как дела? Дела мои были никак, и он пошел по очередному кругу. Через минуту – снова передо мной: а задачка уже решена? И тут он говорит: «Медленно соображаете, а ведь инженеру надо уметь принимать не только правильные, но и быстрые решения. А если бы вы оказались в аварийной ситуации и так долго соображали? Ставлю вам четыре – за скорость». На мой взгляд, это было не слишком справедливо, но огорчился я не слишком – понимал, что переходные процессы не самое сильное мое место (я их, к слову, одолел уже в аспирантуре, когда в качестве положенной аспиранту педнагрузки подрядился проводить практические занятия на кафедре ТОЭ). И вот приходит пора третьего экзамена, точнее – дифзачета по теории электромагнитного поля. Принимать его должен был какой-то ассистент, которого мы в грош не ставили и сдать которому все что угодно считалось не проблемой. Но вышла ошибочка, которая снова свела меня с Олегом Борисовичем. Во время сдачи зачета, а его сдавала вся группа в письменной форме, наш ассистент, сам, по-моему, плохо разбирающийся в теории электромагнитного поля, вздумал кого-то из нас (не меня, кстати!) уличить в списывании. Поднялся большой хай, когда мы попробовали защитить своего товарища. А в результате ассистент наш выгнал с зачета и провинившегося, и полгруппы самых ярых защитников в придачу. А когда мы пришли пересдавать этот легкий зачет, вдруг выяснилось, что принимать его будет сам Толпыго. И нам сразу стало не до шуток. Сидело нас, таких «хвостов» со всего потока, в аудитории человек, наверное, пятьдесят-шестьдесят. И Толпыго выдал нам совершенно чудовищные по сложности задачки. Когда мы свои работы сдали, он стал по одному приглашать нас в кабинет для индивидуальной работы. Подошла и моя очередь, он смотрит мою халтуру и говорит: «Вы, похоже, единственный, кто почти справился с этим вариантом задачи. Что же вам ставить?» И тут меня черт за язык дернул. «По прогрессии», – говорю. «По какой прогрессии?» – спрашивает он. «По арифметической, – отвечаю я, – было пять, потом четыре, а сейчас, значит, должно быть три…» И тут Толпыго взбесился: «Вы что – сюда торговаться пришли?! Вон! Придете ко мне еще раз».
Продолжение этой истории было вот каким. Из-за несданного зачета меня и моего лучшего товарища институтских лет – Юрия Галишникова, теперь профессора и доктора наук – долго не допускали к первому экзамену в той сессии. Допустили только по ходатайству группы – за один день до экзамена. А экзамен был по ТММ и ДМ, если я верно помню. Лекций там было штук, наверное, семьдесят, ей-богу. Предмет этот не считался сложным, но один день на подготовку такого обширного курса – это было маловато даже для нас с Юрой. Тогда я едва выскребся на первую и единственную в своей жизни тройку в сессию. И вообще – вся та сессия (пятый семестр) пошла наперекосяк, и устали мы от всех этих перипетий безумно. Все отправились на зимние каникулы, а нам было велено сдавать наш зачет по ТОЭ. Пошли мы к декану, им тогда был Е. В. Кононенко, просить передышки. А он говорит: «Нет, нет и нет. Если не сдадите в первую неделю каникул, будете отчислены». И тут мы сделали совершенно безумный ход – пришли на прием к О. Б. Толпыго.
Объяснили ему все и попросили о милости к павшим. И что вы думаете? «Хорошо, – сказал он, – отдыхайте, придете сдавать в последний день каникул, а деканат я возьму на себя». Как он уговорил декана, я не знаю, но мы поехали к Юре домой, в Минусинск. С твердым намерением подготовиться. Из которого, впрочем, ничего не вышло: в соседнем Абакане были на каникулах наши девочки (в том числе моя будущая жена Галя Страмковская, гостившая у своей лучшей подруги Н. Сиделевой), а у Юриных родителей были совершенно замечательные соленые помидоры, которые восхитительно шли под водочку. Короче, мы вернулись в Томск совершенно неготовыми к встрече с Толпыгой, но морально отдохнувшими. Когда мы явились на зачет, в головах наших был почти полный вакуум, но тут нам сказочно повезло: Толпыго посадил нас в своем кабинете, а сам часа на полтора куда-то убежал. Мы списали, теперь в этом можно признаться, абсолютно все, поскольку вместо задач он дал чистую теорию. Вот так мы и получили свой зачет и так расстались с Олегом Борисовичем. Много позже, когда я уже жил в Тольятти, я получил от него персональный привет из Киева, где он обитал в то время. Надо думать, что я и сам чем-то его зацепил, если он меня тоже запомнил.
А вот и мораль, которую я вынес из всей этой истории. Первое: хороший преподаватель может быть немного самодуром. Тогда студенты его лучше запомнят. Когда я сам стал заведовать кафедрой, я невинному самодурству своих преподавателей никогда не мешал. Если оно не ущемляло личное достоинство студентов. В таких случаях я становился абсолютно беспощадным и выгонял даже хороших специалистов, чего бы мне это ни стоило. Второе: студент не должен давать советов преподавателю, даже шутливых и даже если он на них сам напрашивается. Третье: жесткость преподавателя никогда не должна перерастать в жестокость. Даже жесткий преподаватель должен уметь входить в положение студента. Выводы более чем простые, но они сильно помогали мне в работе и в гармонизации интересов с окружающим миром.
М. Н. Шерстнева
Шерстнева читала нам лекции по математике и вместе с двумя другими дамами – И. Я. Мелик-Гайказан и Р. М. Кессених – составляла великолепное лекторское трио. У нас вообще-то было мало женщин-преподавателей, а эта троица к тому же сильно выделялась даже на мужском фоне. О каждой из них я бы мог, наверное, кое-что порассказать. Например, я помню, что один из экзаменов по физике (это И. Я. Мелик-Гайкозян) был у нас 13-го числа в 13-й аудитории физкорпуса, а мне в добавление ко всему еще и тринадцатый билет достался! Еле-еле тогда выплыл на «отлично», и то эту оценку, скорее всего, должен, если честно сказать, разделить пополам с преподавателем. А Р. М. Кессених (электроизоляционные материалы) почему-то любила меня воспитывать. Прямо на экзамене. За небрежение к знаниям. Но отметки ставила хорошие – должно быть, что-то во мне разглядела уже в ту пору.
Но здесь речь о М. Н. Шерстневой, с которой у меня был связан совершенно уникальный случай. Ни до, ни после этого ничего подобного в моей долгой вузовской жизни не случалось более. Было так: я сдал второй, по-моему, экзамен по математике, получив при этом свою честно заработанную четверку. И вдруг на следующий после экзамена день мне в общежитие передают, что я должен явиться к Щерстневой на кафедру математики. И срочно. Ну, думаю, влип я на чем-то, не иначе. Прихожу, а она мне говорит: «Я вам вчера по ошибке выдала задачку из следующего семестра, которую вы, в принципе, решить не могли. Тем не менее, вы с ней почти справились. Я прошу прощения. Давайте зачетку, и я исправлю вам оценку на «отлично». Я был потрясен. И потрясаюсь этой историей до сих пор: кто я такой для лектора? Да никто, один из сотен студентов, проходящих через ее руки! И мне эта пятерка не слишком была нужна, и ей эти извинения были, как казалось, ни к чему. А вот ведь, как выяснилось, к чему, если я все это помню до сих пор. И если до сих пор исповедую принцип: не бойся признаваться в своей ошибке даже перед студентом – тебя не убудет, а ему пойдет на пользу. Вот такая маленькая мораль из такой маленькой истории.
Эдуард Карлович Стрельбицкий
Из молодых преподавателей нашей родной кафедры, кроме Кости Хорькова, М. Уляницкого, А. Курносова и Эдика Стрельбицкого, я не помню почти никого. Костю запомнил потому только, что он был руководителем моего дипломного проекта по ударному генератору. Я его тогда жутко «доставал» – требовал консультаций чуть ли не каждый день, представляете? М. Уляницкий и Э. Стрельбицкий руководили нашей первой практикой после третьего курса – в Кемерове, на «Кузбассэлектромоторе». Практика эта, наверное, из-за того, что была первой, запомнилась очень хорошо, проходила она весело и была насыщена всякими событиями. В основном – личного плана. Я тогда впервые приобщился к околонаучной работе – вместе с Ю. Галишниковым измерял направления и скорости движения воздушных потоков в системе охлаждения асинхронных двигателей.
А. Курносов, пижонистый, как мне тогда казалось, молодой человек, руководил нашей практикой после четвертого курса, в Свердловске, на «Уралэлектротяжмаше». Руководителем он был, если по делу, плохим, появлялся у нас редко, но жить и заниматься своими делами нам не мешал. С этой практики у меня в памяти сохранились два эпизода. Первый вот какой. В Свердловск посылали только тех, у кого было где остановиться на время практики. Мы с Ю. Галишниковым, в частности, были на постое у каких-то знакомых моей матери. Другие жили кто где. И через неделю стало ясно, что так жить нельзя. И мы пошли в комитет комсомола Уральского политеха и уговорили тамошних ребят помочь нам с общежитием. Где-то через несколько дней все мы, практиканты, обитали в красном уголке одного из общежитий. И сразу стало веселей. Хорошо помню эту историю, потому как был одним из «закоперщиков» этого дела, которое потом, после возвращения в Томск, почему-то было поставлено нам в вину. Нас почему-то упрекали за самодеятельность, за то, что мы вроде бы как подставили своего руководителя. О втором эпизоде рассказывать мне не очень хочется – стыдно до сих пор, но из песни слов, как говорится, не выкинешь… Речь идет о книге. Книге Касьянова по расчету крупных гидрогенераторов, по которым у нас осенью предполагался курсовой проект. О Касьянове я к той поре кое-что знал – от Г. А. Сипайлова. Он был крупным специалистом ленинградской «Электросилы» и учителем самого Геннадия Антоновича. Книги этой в Томске не было вовсе, даже в фундаментальной библиотеке, поэтому, когда в заводской библиотеке «Уралэлектротяжмаша» я эту книгу обнаружил, у меня тут же дыхание сперло, и я решил ее на время «позаимствовать». Чтобы сделать копию. Это сегодня легко скопировать все, что угодно, а тогда с копией вышла проблема: сделать ее не удалось, а книга была украдена. Для последующего возврата, но украдена. Этот эпизод, сказать по правде, тяготит мою душу до сих пор. И только поэтому я его и рассказываю – может, полегчает. Был, конечно, жуткий скандал, работники библиотеки не знали, кто такую свинью им подложил, но знали точно, что кто-то из томских студентов. На групповом собрании в Томске кафедра пыталась установить виновного, но не смогла: все «свердловчане», прекрасно знавшие историю и одобрившие, кстати, мой поступок, молчали как рыбы. Никто из них, к слову сказать, никогда эту кражу мне не напоминал, даже много лет спустя. Подозреваю, что им тоже было стыдно. Книгу мы вернули. Но всякий раз, как я вспоминаю Свердловск и Курносова, мне делается как-то нехорошо. И поделом.
Стрельбицкий Э. К., Сипайлов Г. А., Ивашин В. В., Милорадов И. А.
Теперь о Э. Стрельбицком. Он вел у нас практические занятия, лабы и курсовые проекты. От его практических занятий у меня до сих пор хранится ощущение собственного тупоумия: задачки по специальности вообще штука для студентов сложная, а Эдуард Карлович к тому же был большой умница и насмешник, а тупоголовия не уважал. (Привожу для примера два его знаменитых высказывания, может быть, более поздней поры – аберрация памяти, знаете ли, страшная штука: «Студент-электрик из института должен вынести только одно: он должен говорить – провод, а не проволока!»; «В институте было бы хорошо работать, если бы не было студентов!»). После окончания института мне приходилось с ним общаться более плотно, и один случай я не могу не упомянуть: он тоже уникален в своем роде. В одной из своих статей Э.К. сослался на информацию, полученную им от меня, тогда аспиранта, и моего научного руководителя В. Ивашина в частной и устной, само собою, беседе! Никогда более у меня такого не было и уже не будет: научный мир, конечно, более щепетилен, чем какой-то другой, но не до такой степени, какую продемонстрировал Э.К.!
Как Э. К. вел лабораторные, я не помню. Наверное, ничего такого не было. Но один случай с курсовым по асинхронным двигателям осел в памяти. В тот год, наверное, 58-й или 59-й, вышла фундаментальная книжка Гарика-Лившица «Обмотки машин переменного тока», и при выполнении курсового я ее активно использовал. На защите курсового Э.К. заявил мне, что обмотка нарисована мною неверно и надо исправить. Я же, ссылаясь на Гарика-Лившица, доказывал, что я прав. За книжкой, кстати, пришлось бежать на Завокзальную улицу, где я снимал угол. Теперь не помню уже, чем все это кончилось. Скорее всего, прав был Э.К., а я что-то в книжке недопонял, но само это столкновение помню – я в молодости был «упертым», даже во вред самому себе. Но в этом случае никаких последствий, надо думать, не было: Эдуард Карлович, несмотря на свой язвительный язык, был натурой широкой и толерантной к младшим по званию – качество, которому я и сам, как мне кажется, научился. В том числе – и у него.
Дорогой Геннадий Антонович!
Едва ли рассказанные мною истории представляют какой-то общественный интерес и попадут в вашу книгу. Они, мне кажется, больше раскрывают меня самого, нежели тех преподавателей, с которыми я сталкивался. Но, заметьте, искры на оселке памяти выбивали именно столкновения, а не скучная бытовуха. К тому же эти истории, как и многие другие, здесь не рассказанные, так или иначе повлияли на меня. В какую сторону, сказать трудно, но я точно знаю, что хорошим преподавателем в институте может быть только тот, кто помнит свои студенческие годы. И не впадает в искушение вседозволенности и всемогущества, общаясь со студентами. В заключение рассказываю последний свой анекдот (историю из жизни), который в какой-то мере увязывает все те маленькие моралите, о которых я говорил ранее. В прошлом, 99-м, году, выступая на банкете, который устраивают наши выпускники по случаю последнего заседания ГЭКа, председатель этого самого ГЭКа, наш бывший выпускник, среди прочего, обращаясь к дипломникам, сказал: «О каждом из ваших преподавателей я могу рассказать много историй, веселых и не очень. Исключение – ваш завкафедрой Милорадов И.А, он у вас слишком правильный!» Не уверен, что это можно считать похвалой, но зато уверен, что эта «правильность» – следствие в том числе и моего собственного студенческого опыта, о котором я кое-что рассказал.
Я ничего практически не говорил о своих институтских товарищах – без их разрешения, по-моему, говорить о них просто-напросто не следует, хотя в памяти сохранилось многое. Преподаватели – другое дело, они люди публичные, и в таком качестве не должны обижаться на анекдоты о себе. До свидания.
Ваш И. Милорадов
Р.S. На старости лет я решил заняться коллекционированием академических дипломов самого экстравагантного свойства, теперь это нетрудно. На сегодняшний день в моей коллекции пока два диплома действительного члена двух академий – Международной академии энергоинформационных наук и Академии социального образования. Профиль этих академий для меня – тайна, и бумажки эти нисколько не тешат мое честолюбие (больше самолюбие жены!), но, когда я держу их в руках, мне становится веселее: если люди в состоянии придумывать такие штуки – жизнь продолжается вопреки объективной реальности. И назло ей. Не так ли?
«Томский политехник» 2001 №7