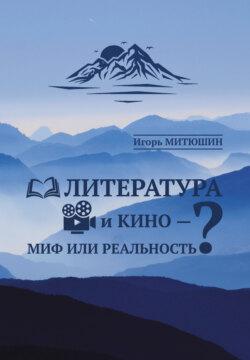Читать книгу Литература и кино – миф или реальность? - Игорь Митюшин - Страница 11
Часть первая
О роли языка
Эстетика «культурного» человека
ОглавлениеДревняя Греция, колыбель европейской цивилизации, как принято её определять в истории, явившая и первый опыт демократии и образцы человеческой культуры, дала миру и критерии эстетического. Главные из них:
а) слитность, нерасторжимость духовной и физической красоты; красота тела символизировала высокий дух, служение, самоотдачу; тело – способ выражения чувств, внутренней борьбы, преодоления; единство духовной и физической красоты трактовалось в дальнейшем как взаимосвязь этического и эстетического;
б) выработка, становление понятий эстетического, прекрасного через такие категории, как гармония, мера, пропорции;
в) созерцательность как наслаждение, как способ постижения прекрасного.
Однако период равновесного единства морального и эстетического был недолог. Уже в Римской империи разделение физического и духовного, а вместе с ними – морального и эстетического явно ощущалось не только в повседневной жизни граждан, но в самой концепции общественного устройства. Общество было поделено на трибы, на группы разного достоинства, имеющие неодинаковые права и возможности. И сама империя включала разные области с различным общественным статусом.
Моральные ценности стали дробиться: что морально для одних, то аморально, безнравственно для других (институт рабства, например). Богатая верхушка общества постепенно погрязала в неуёмной роскоши, развлечениях, духовно разлагаясь и утрачивая чувство меры, гармонии. Именно это, как отмечал Гегель в своей работе «Философия истории», в значительной мере способствовало падению империи. Богатым римлянам были чужды образование и искусство. Они вывозили из Греции рабов, которые становились для них писателями, поэтами, заведующими их фабрик, воспитателями их детей. Империя для обслуживания своих интересов нуждалась в художниках, архитекторах. Их творчество было подчинено идее прославления империи и её августейших особ. Это были скульптурные портреты императоров, величественные архитектурные сооружения (например, Колизей в Риме).
Именно Рим задал тот стиль прославления власти, её силы, величия, к которому много веков спустя обращались художники России при возведении Петербурга – столицы Российской империи, или зодчие уже XX века, славившие диктаторские режимы Германии, Советского Союза.
Гегель отмечал, что состояние римского мира «стало муками родов другого, более возвышенного духа, который открывался в христианской религии».
Христианская культура Средневековья в Европе окончательно закрепила разрыв физического, земного, «греховного» – с одной стороны, и бесплотного духа, носителя праведности, – с другой. Религиозные каноны в изображении святых требовали фиксации внимания художника прежде всего на одухотворённых лицах. Тело изображали в плоском двухмерном измерении с отсутствием перспективы. Известным примером изобразительного искусства этого стиля является русская иконопись.
Отрыв духовного от земного достиг особенно яркого выражения в архитектуре храмов готического стиля в Европе. Самые выдающиеся памятники относятся к периоду пламенеющей готики.
Таким образом, на стороне религии оказались как моральный авторитет, так и эстетические ценности, как философия, так и эстетика миросозерцания.
В дальнейшем возникло неизбежное противопоставление религиозного и светского начал и, наконец, их раскол.
Беспомощность земного человека перед Божественной силой не только культивировалась. Реальная зависимость от набегов и грабежей обусловливалась раздробленностью государств на княжеские уделы. Для защиты от этих внешних «врагов» строились замки, укреплённые города.
Внутренним врагом человека были его необразованность, не зависящая от социального статуса, дремучесть, что усиливало его тяготы и одновременно делало его рабом религиозных институтов, достигших небывалой власти. Гегель подчёркивал, что разложение внутри духовенства и набиравшее силу противоречие со светской властью стали стимулом к переменам. Активизация экономической жизни, появление университетов способствовали рождению новых идеалов, новой этики и новой эстетики.
Что дало искусство европейского Средневековья для мироощущения человека? Вот некоторые выводы.
• Было уделено огромное внимание внутреннему миру человека, его духовным поискам, его практике борьбы со злом не только вовне, но и внутри себя.
• Были сформулированы идеи и означены образы добра и зла.
• Была осуществлена попытка обозначения эстетического идеала.
• Искусство возведения храмов и их оформления поднялось на недосягаемую высоту, было приравнено к Божественному промыслу.
Нужно отметить, что в эстетическом освоении мира духовно-религиозные поиски всегда были ведущими. И фигура художника при этом была необычной, он принадлежал к избранным, к духовной элите, он был философом, мудрецом, учителем жизни.
Вот этот образ мастера, титана, гения вошёл в новую эпоху и явил миру новое искусство, а именно то, что и сегодня именуется искусством Возрождения.
Сошлёмся на анализ О. Шпенглера, который в своей работе «Закат Европы» сопоставляет два исторических типа человека – аполлоновский (античный человек) и фаустовский (человек эпохи Ренессанса). Ренессансу сильная вера готики служила в качестве постоянной предпосылки его мирочувствия. Подражание природе означало подражание её душе. Ренессанс означал тогда готический взлёт от 1000 года и далее, новое фаустовское мирочувствие, новое самопереживание Я в бесконечности.
Рафаэль, пишет Шпенглер, был проникновеннейшим из всех создателей Мадонн. Твёрдая вера в дьявольский мир и в избавление от него заступничеством святых лежит в основе всего искусства и сочинительства; все без исключения неизменно взирали на костры ведьм как на нечто естественное и носили амулеты против дьявола. Люди, не ощущающие за спиной дьявола, не смогли бы создать ни «Божественную комедию», ни потолок Сикстинской капеллы. Только на мощном фоне этого мифа в фаустовской душе выросло ощущение того, чем она была: Я, затерянное в бесконечности; всецело сила, но бессильная в бесконечности более великих сил; всецело воля, но исполненная страха перед своей свободой.
Эстетика Возрождения впитала достижения классической формы греческой пластики, архитектуры и традицию поиска духовных ценностей Средних веков. Это то, что было взято в наследство из прошлого. В то же время настоящее было отмечено развёртыванием возможностей человека, его способностей в изменении мира. Всё это было переплавлено в творчестве Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса, Тициана, а позднее – художников Испании, Голландии, Англии, Франции. Духовное и телесное как бы снова соединились.
Литература Возрождения восприняла мир человека как внутренне сложный и неоднозначный. Шпенглер пытался воспроизвести состояние души художника, писателя: рядом совершалась бесконечная работа над понятиями, которые расщепляли всё тоньше и тоньше, чтобы докопаться до великого «почему», и звучал под конец всеобщий вопль о благодати не магической, которая сходила как субстанция, но фаустовской, которая освобождала волю.
Возмочь быть свободной – вот в конечной глубине тот единственный дар, который вымаливала у неба фаустовская душа.
В фаустовском покаянии заложена идея личности. Ренессанс придал ей блистательную и плотскую форму, в которой любой мог сразу её заметить. Но родилась она вместе с готикой; она составляет интимнейшее достояние последней; она тождественна готическому духу. Ибо такое покаяние каждый совершает за себя одного. Он один может испытывать свою совесть. Он один покаянно предстоит бесконечности; он один обязан в исповеди понять своё личное прошлое и облечь его в слова. Скрупулёзное исследование собственного прошедшего есть в то же время самое раннее проявление и великая школа исторического духа фаустовского человека. Нет другой культуры, в рамках которой собственная жизнь – черта за чертой и по обязанности – была бы так важна для живущего, ибо он должен словесно дать во всём отчёт.
Немецкие романтики Гёте, Шиллер связывали природное, нравственное, эстетическое воедино. В образе Гёте, поэта и философа, слились теоретик и художник. Теория Гёте представляла собой самообъяснение. Многочисленные и важные замечания в области искусства составляют часть признаний, названных им самим исповедью. Сутью своего существования он считал стремление к созиданию, которое охватывает всю область поведения человека, определяет все формы деятельности.
Вечно грызущая потребность всё рассудить превратила в протестантских странах музыку, живопись, поэзию, письмо, философскую книгу из средств изображения в средства самообвинения, покаяния и бесконечной исповеди. Так же и в католическом регионе, прежде всего в Париже, одновременно с сомнением в таинстве покаяния возникло искусство как психология. Созерцание мира исчезло перед нескончаемым разрыванием собственной души. Личное искусство… есть замена таинства покаяния. Но это уже свидетельствует о старении фаустовской культуры.
В целом необходимо отметить следующее: эстетические чувства и представления о прекрасном у «человека культуры» развиваются вместе с выработкой им системы ценностей, с поиском смысла жизни, определением социальных идеалов свободы, справедливости.