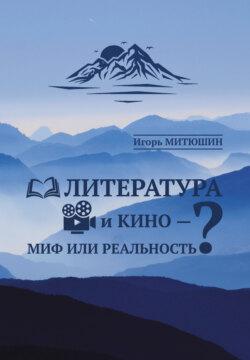Читать книгу Литература и кино – миф или реальность? - Игорь Митюшин - Страница 3
Часть первая
О роли языка
Символический прообраз эстетического
Оглавление– символическая роль языка —
– культурная и социальная роль языка —
– язык как символическое знание —
Человеку, как только он становится человеком, нужна оформленность своего Я или МЫ. Эта оформленность необходима прежде всего в общении, в процессе коммуникации как в родо-племенном обществе, так и в цивилизованном. Главным средством коммуникации становится язык. Кроме языка есть другие аудио- и видеосредства, да и сам язык усложняется, изменяется, приобретает новые формы, новое качество.
В многовековой отшлифовке этих инструментов формировались эстетическое чувство, вкус, развивалась фантазия.
Мы будем рассматривать язык как инструмент выражения эстетического отношения.
Символическая роль языка
О складывании языка общения, закономерностях этого процесса пишет Ортега-и-Гассет. Очевидно, что в человеке, с того момента как он начал «очеловечиваться», должна была существовать потребность в общении, несопоставимая с прочими животными, и что эта столь жгучая потребность могла зародиться лишь потому, что ему много, аномально много надо было сказать. В нём было нечто, чего не было ни в одном другом животном, а именно – переполняющий его внутренний мир, жаждавший быть выраженным, изречённым.
В нём должна была пышно расцвести, получить аномальное развитие одна из первичных функций – фантазия. Сегодня эту фантазию, упорядоченную временем (историческим, генетическим…), именуют разумом. Аномальность человека, в отличие от животного, как раз и состоит в буйстве образов, подсказанных воображением, которое вдруг пробудилось в нём и создало его внутренний мир, который буквально распирал его, беспокоил и пугал, требуя выхода вовне, соучастия, собеседника; иными словами, человек жаждал быть понятым. Он испытывал неукротимую потребность сделать явным для другого мир чувств, скрыто кипевших в нём, – потребность лирическую, исповедальную.
Следствием этой жгучей потребности становится конфликт с несовершенными средствами общения, в результате которого «изобретается» язык, и не только он, но и множество других творческих форм. Этот непрестанный конфликт перерастает в плодотворный творческий процесс создания разговорных языков.
Лингвисты отмечают, что изначально все слова и обороты были выдумками отдельных людей. Затем они превратились в застывшие словоупотребления, штампы, и лишь тогда стали составной частью языка.
Борьба между индивидуальной манерой речи и народными речениями – нормальное состояние языка. Пленник общества, индивидуум, то и дело предпринимает попытки освободиться от его влияния, жить, творя жизнь по себе. (Для художника это свойственно в большей мере.) Иногда общество, изменив что-то в системе сложившихся обычаев, усваивает новые формы.
Артикулирование звуков – лишь одна сторона речевого процесса. Вторая его сторона – это жестикуляция, выразительные возможности всего человеческого тела. Жестикуляция в данном случае включает, конечно, не только движения рук, но также и мимику. А поскольку речевая жестикуляция сопровождается жестикуляцией телесной, то система языкового общения перерастает рамки языка и предстаёт перед нами как проекция народной души. Все пластические и языковые виды искусств пользуются описанным инструментом в целях эстетического воздействия.
И ещё одну особенность языка отмечает Ортега: разговорный язык состоит и из умолчаний. Здесь уместно вспомнить знаменитые сценические паузы, которые умели держать великие актёры, сохраняя максимальное напряжение в зрительном зале. Более того, если бы человек не был способен умалчивать о многом, то он оказался бы неспособен говорить. Соотношение между высказываниями и умолчаниями в каждом языке – своё.
Испанец говорит открыто то, о чём у англичанина принято умалчивать. Из-за этого возникают и трудности перевода художественного текста с одного языка на другой: переводчик пытается высказать на каком-то языке то, о чём данный язык стремится умолчать.
Один язык не может выразить всё многообразие впечатлений, чувственных ощущений, поэтому возникают и другие языки – языки искусства.
Таким образом, эмоциональное мироощущение индивида как существа, живущего в символическом мире и творящего этот мир, складывается на основе языка или языков общения.
Вместе с тем говорить об эстетике как особенности мировосприятия у символического человека ещё рано. Это скорее предэстетика или протофеномен эстетики. Ибо здесь человек ещё в плену «коллективного бессознательного» (термин, введённый К.Юнгом). Он зависим от обычаев, сложившихся в обществе, он в плену у языка. Такое состояние свойственно ребёнку, ученику, который ещё только вступает на путь социализации – знакомства с нормами общества, интериоризации их. О самостоятельном эстетическом вкусе, выборе эстетического объекта ещё говорить не приходится.
Предэстетика – это только зачатки, потенция будущего эстетического чувства как индивидуальной черты, признака «культурного человека».
Здесь уместно вспомнить, что Е.Кассирер, изучая символическую функцию языка, сделал очень важный вывод о так называемом предпонимании, или квазикатегориальном предустроении в познающем субъекте.
М. Хайдеггер (1889–1976) считал самым подлинным языком язык поэзии: язык – дом бытия, стражи этого дома – поэты и мыслители. В отличие от языка поэзии, повседневное общение – язык неподлинный.
И действительно, ещё с детства, навязывая нам общеупотребимый язык, наше социальное окружение попутно навязывает нам и образ мыслей, выразителем которого этот язык служит. Подавляющее большинство наших представлений (обычаи, язык или форма приветствия) механистичны, непонятны, навязаны извне. Поэтому в интеллектуальном отношении человек, как правило, живёт за счёт общества, безраздельно и бездумно ему доверяя, то есть он функционирует в обществе как автомат.
И только творческий человек, художник, актёр «взрывает» ситуацию, заставляя меняться её, себя и других.