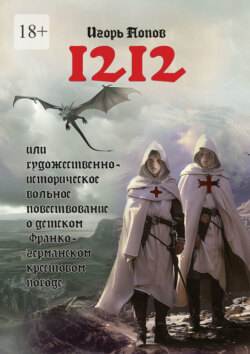Читать книгу 1212. Или Художественно-историческое вольное повествование о детском франко-германском крестовом походе - Игорь Попов - Страница 3
Глава 1.
Касьянов день Мстислава Мстиславовича Удатного
Оглавление6720 год от сотворения мира по византийскому летоисчислению носил статус «високосного», а значит, сложности и неприятности ему были гарантированы провидением, ибо всего лишь одни лишние сутки искажают привычную реальность, порождают вольнодумие, вседозволенность и ненужное брожение в умах совсем не просвещённого простого люда, да и образованной знати тоже.
С незапамятных времён считалось, что високосный год несёт несчастья и страдания, а сам термин был введён ещё в Римской империи самим Юлием Цезарем. Он же подарил человечеству день 29 февраля. Римские астрономы совместно с александрийским учёным Созигеном заметили, что полный виток вокруг Солнца Земля совершает не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд. Чтобы упростить счёт дням, «лишние» часы, минуты и секунды учёные мужи того времени решили объединить в один дополнительный день, который будет появляться в календаре один раз в четыре года. Старый римский календарь состоял из 355 дней с дополнительным 22-дневным месяцем каждые два года. А с 1 января 45 года до н. э. Цезарь ввёл новый календарь, названный в его честь юлианским.
В XI веке, после утверждения христианства, на Руси была принята византийская эра счисления времени, ведущая свой счёт от 1 марта (пятницы) 5508 года до нашей эры. И это при том, что в самой Византии счёт лет вёлся от 1 сентября 5509 года до н. э. На Руси византийский календарь был известен под названием «Миротворного круга», или «Церковного круга», для записи номеров лет и чисел месяца использовалась кириллическая система счисления.
Прибавленный день 29 февраля получил на Руси название «Касьянова дня» – в честь святого, славившегося своим дурным характером. У латинян этот «лишний» день не имел де-факто юридического статуса: не заключались никакие сделки, не подписывались договоры, – хотя именно в этот день в некоторых европейских странах женщина могла сделать брачное предложение мужчине. И мужчина не мог отказать – иначе огромный штраф.
И вот в этот самый день, будь он неладен, задумал Мстислав Мстиславович Удатный отправить своего младшего сына Юрия в Неметчину на поучение, коего на Руской земле не сыскать вовеки – как известно, нет пророка в своём отечестве. Неметчиной, или страной «немых», на Руси называли всех иноземцев, ибо известно: кто по-руски не разумеет, тот «немец». Городок выбрал малый, но толковый – Ахен прозывается, к юго-западу от Кёльна – день пути крупной рысью. В старину Ахен служил резиденцией франкских королей, но своим великолепием и образованностью он обязан Карлу Великому, который сделал городок своей зимней резиденцией, а потом и столицей Франкского государства. Палатинская академия Карла Великого славилась в Европе высоким уровнем образования, занятия были ориентированы на семь свободных искусств, носили характер дружеских бесед, а также богословских диспутов. Главными предметами в альма-матер были грамматика, риторика, логика.
Юрий появился на свет смирным и послушным малым – в кого только. Мать его, Мария, половецкая княжна, дочь хана Котяна Сутоевича, представительница половецкой линии «тертеровцев», обладала твёрдым характером, а этот «ни рыба ни мясо», прости Господи, хоть и крепок телом. Юрий уродился в мать: рыжим, с голубыми глазами, слегка смуглым, тонколицым – вылитый дед Котян. Вот такие тогда были половцы – похожи на русичей, ибо относились к южноевропейским народам.
Досточтимый отец Юрия, Мстислав, был сыном Мстислава Ростиславовича Храброго, правнуком Мстислава Владимировича Великого, праправнуком Владимира Всеволодовича Мономаха, прапраправнуком Всеволода Ярославича, прапрапраправнуком Ярослава Владимировича Мудрого, единоличного правителя единой Киевской Руси. Внук Мстислава Мстиславовича Удатного от родной дочери, великой княгини Феодосии, станет культовой исторической личностью и затмит полководческим талантом деда. Имя ему – Александр Невский.
Лестное прозвище Мстислава – Удатный, «удалой», «удачливый» во всех смыслах – говорит о многом: во всех битвах, несмотря на молодость, принимал единственно верное решение и не имел ни одного поражения! Позже его нарекут «самым значимым князем домонгольской эпохи». Обладал князь добрым, великодушным характером и имел явный для того времени и осуждаемый окружением недостаток – верил людям на слово. Упаси, Господи, от такого неведения!
Мстислав Удатный являлся отцом одиннадцати детей от одной женщины, тогда как сам был единственным ребёнком своих родителей, этаким баловнем судьбы. Носил звание князя Трепольского, Торопецкого, Новгородского, Галицкого, Торчесского. Человек невиданной храбрости, удивительной рассудительности, среднего роста, плотного телосложения, с густой окладистой бородой, большими проницательными глазами навыкате, говорил быстро, ходил стремительно, взрывался эмоционально с пол-оборота, но в столь же короткий срок отходил и не был злопамятен. Детей любил, но не баловал, мысленно проживал их будущую жизнь и готовил отроков к ней по своему разумению. Мечу Мстислав предпочитал боевой топор на длинной ручке, лошадей любил серой масти. Известно доподлинно, что один из его боевых коней был сивым, почти белым. Другого звали Атказ, что по-половецки означает «конь-гусь».
Голова Удатного была занята в описываемый период подготовкой военного похода на чудь, «рекомую Торму» (чудское племя «торма» обитало к северу от города Юрьева). Как военный стратег и тактик, Мстислав набрасывал план предстоящего похода единолично, ни с кем не советовавшись, ибо считал, что воинское искусство «знает других поболее». Племя чудь в то славное время били все кому не лень – безбедные были, подлецы, откупались богатыми дарами и подношениями. К слову сказать, со временем чудские племена, жившие на южном побережье Финского залива, были завоёваны датскими и немецкими рыцарями, и их ополчения действовали в составе основных войск в качестве вспомогательных подразделений. Уже упомянутый внук Мстислава Мстиславовича, Александр Невский, в знаменитой битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года нанёс сокрушительное поражение ливонцам и чуди за опустошение ими Новгородской земли.
Чтобы с чистой душой и лёгким сердцем отправиться в военный поход, надо решить накопившиеся семейные дела и вопросы, чтобы они ум не терзали и сон в такой важный период, перед боями, не бередили. Итак, главный вопрос на повестке у Удатного был об обучении в германских землях своего самого младшего и, как ни странно, не очень любимого сына Юрия. Отроку уже полных двенадцать лет, через три года женить можно, а он к военному ремеслу интереса не проявляет, да и в жизни робок и отстранён – сидит себе в палатах и читает новгородскую деревянную псалтырь целыми днями. Книгами Мстислав Мстиславович шибко не интересовался, да и поди купи их – за небольшой молитвенник надо отдать 8 гривен кун, тогда как за село с душами просили в среднем 50 гривен кун. Баловство одно, словом.
Про германский город Ахен вспомнил князь, и неспроста: при академии Юрий жить и учиться будет, глаз много за ним, не забалует. Да и родня там знатная, проследит в случае чего, а там и невесту королевского рода можно присмотреть, ниже нельзя, мы высоко на Руси летаем!
Неспроста Удатный про родню германскую вспомнил – связи Руси и Европы были тесно переплетены родственными узами дальновидной политикой киевских князей. Тут чуть поподробнее, для понимания описываемых событий.
Славные князья Киевской Руси имели обширные родственные связи с королевскими домами практически всей Европы. Отбросим от нашего повествования 200 лет и увидим, что Ярослав Владимирович Мудрый был женат на Ингигерд, дочери шведского короля Олава. Старшая его дочь, Елизавета (Эллисив), стала женой норвежского конунга Харальда Сигурдарсона. Вторая дочь, Анна, была выдана за французского короля Генриха I. Третья дочь, Анастасия (Асмунда), была женой венгерского короля Андрея.
Сын Ярослава, Всеволод, был женат на греческой принцессе Анне, дочери императора Константина Мономаха. Он же принял решение отдать свою дочь Евпраксию за маркграфа Саксонии Генриха Штадена. Когда тот умер, на Евпраксию положил глаз сам император Священной Римской империи Генрих IV. В 1089 году по латинянскому летоисчислению Евпраксия-Адельхайда была коронована как императрица Священной Римской Империи.
Другой Ярославович, Изяслав, женился на сестре польского короля Казимира Гертруде. Сын Изяслава, Ярополк, женился на падчерице саксонского маркграфа Дедо Ирине.
Третий сын Ярослава, Святослав, был в родстве с настоятелем Трирского собора в Германии, по имени Бурхард. О жёнах остальных четырёх сыновей Ярослава подробно не известно, но имеются сведения, что они происходили из влиятельных княжеских домов Германии и Англии.
Прапрадед Мстислава Мстиславовича Удатного Владимир Мономах был женат на Гите, дочери Харальда Английского. После смерти Гиты в 1107 году он вторично женился на дочери венгерского короля Владислава Святого…
Можно долго продолжать перечислять родственные связи Руси с Европой, а надо ли, чтобы понять, что мир тесен и Святую Русь уважали и побаивались, иначе короли своих дочерей варварам не отдавали бы. Очевидно, что Русь была европейской по духу, несмотря на религиозные противоречия. Не скифы мы, не азиаты мы, с раскосыми и жадными очами!
Прекратились эти активные родственные контакты с Европой лишь после разорения Руси монголами. Но это уже другая historia.
Мстислав Мстиславович напрочь забыл про Касьянов день и его несчастливый жребий, вышел из палат каменных и пошёл прогуляться по Ярославову дворищу Великого Новгорода, в котором исстари князья новгородские жили, и направился к Никольской церкви, построенной Мстиславом Великим, сыном Владимира Мономаха, прадедом Удатного, в честь своего чудесного выздоровления. В церкви князь был недолго, поставил свечку Николаю, византийскому чудотворцу, размашисто перекрестился двумя перстами, попросил его мысленно оберегать в пути и учёбе сына своего, раба Божьего Юрия, и вышел на улицу.
– Коня мне! Быстро! Атказа запрягите, да Юрию кобылу белую! – крикнул князь челяди, а сам прошёл в небольшую палату, стоящую на краю городища. В этой родовитой палате жили дети Мстислава Мстиславовича.
Весть о приходе отца мигом распространилась среди княжеских отпрысков, прихорошиться времени не было, и они выходили из горниц, только слегка поправив одежду.
– Тятя пришёл. – Дочери и сыновья жались к отцу, опустив глаза.
– Ты совсем нас забыл, – говорили самые бойкие из них и целовали родителю руки.
– Эх, родимые, знамо, редко навещаю вас, да дел много, дружина славная внимания требует, да о походах кто, окромя меня, думать будет? Вы уж не гневайтесь, милые мои, вот на чудь схожу – любой подарок ваш. Что хотеть изволите, девицы красные-распрекрасные, дочери мои любезные?
– Ничего не надо нам, батюшка, – отвечали его дочери. – Вернись только живым и здоровым, первым в атаку не ходи, дружина на что?
– Так дружина на меня смотрит. Как я воевать буду, так и они подтянутся. Да и какой пример я подам детям своим? – Он бросил взгляд на сыновей. – А вам что привезти с похода, сыновья мои желанные? – И отец посмотрел на них с любовью и интересом.
– Мы мечи хотим посмотреть рыцарские, с нашими сравнить на прочность. О том и мечтаем, – сказал старший из сыновей, Василий.
Сёстры прыснули при его речах, но отец поднял широкую ладонь и молвил:
– Берегу вас, сыновья мои, от походов. Пока не вижу в вас крепости на поле бранное выйти, хоть на окраешек. Но всему своё время, ещё намашетесь мечами до звёзд в глазах. А просьбу вашу выполню – у чуди есть тевтонские мечи, верно знаем. А вам, дочери милые, бусы из янтаря привезу, уж дюже красивые, говорят! Юрий, пойдём с тобой проедемся по городу, разговор есть к тебе.
Юрий, самый младший из детей, внимательно посмотрел на отца и сказал:
– Я быстро, тятя, – и побежал в свою горницу переодеваться.
Дворовая челядь крестилась в своих покоях, чутко прислушиваясь к разговору Мстислава с княжичами. Появляться на глаза князю без его разрешения никак невозможно, а посему не буди лихо, пока оно тихо.
Конюший Тишило, добрый малый, одетый в просторную рубаху и штаны из льняного холста, подвёл к князю двух боевых коней, поклонился до земли и отдал длинные поводья в руки Мстислава Мстиславовича.
Удатный был одет в длинный кафтан, подпоясанный вышитым дивным орнаментом поясом, на плечи наброшен плащ-корзно алого цвета, костюм дополняли круглая расшитая бордовая шапка с меховым околышем из горностая и сафьяновые сапоги землистого цвета. Верный Атказ слегка опустился на левое колено и легонечко всхрапнул. Удатный аккуратно вставил носок сапога в стремя и стремительно взлетел в деревянное седло, обшитое толстой кожей. Конь заиграл под ним, чувствуя сильного седока, которого по-своему, по-лошадиному стал уже понимать и подстраиваться под его ездовую манеру всем своим мускулистым телом.
– Красота, княже, борзо вскочил! – Тишило не сдержал нахлынувших на него чувств и воздел обе руки к небу.
Отец посмотрел на сына с высоты конского роста и крикнул басовитым голосом:
– В стремя!
Юрий повторил отца до мелочей: вставил ногу в стремя и в мгновение ока оказался в малом седле, специально сделанном под него. Белая кобыла сначала повела влево, пританцовывая, но, осаженная натянутым поводом неслабой руки, вмиг стала послушной и кроткой.
– Молодца! – Тишило и здесь не удержался от лестной оценки и поднял правую руку вверх.
Мстислав с интересом посмотрел на сына, как будто что-то новое увидел в нём, и улыбнулся в бороду: не такой уж он и недотёпа. Вспомнил он постриг Юрия, древний ритуал, когда юного княжича сажали на седло, опоясывали мечом, а потом священник состригал ему прядь волос. Затем седло вместе с четырёхлетним наездником перемещали на боевого коня. Великий князь Владимирский Всеволод Большое Гнездо, с которым Мстислав и его родственники имели большую вражду, любил этот ритуал: восемь сыновей – восемь постригов, набил руку. А за сим зрелищем наблюдали четыре его дочери.
Юрий на коне смотрелся по-взрослому: одетый в серый кафтан с широкими рукавами, украшенный бляшками и камнями, покрывающими оплечье, с вышитыми орнаментами в виде сердцевидных фигур, на ногах сапоги, украшенные бусами, он производил впечатление опытного не по годам конника.
– Бусы с сапог сними, сынок, а то в недобрый час застрянут в стремени – сапогу ничто не должно мешать.
– Хорошо, тятя.
Они неспешно поехали по широкой новгородской улице, кивая головой приветствующим их жителям вольного города. Только в Великом Новгороде князь был нанятым населением военачальником, не справился – уходи прочь, свято место пусто не будет. А посему кланялись новгородцы неохотно, но с почтением, знали заслуги Мстислава Мстиславовича. Да и сын его, Юрий, крепко в седле сидит – чай, кровь-то его. Мстислав, поди, кроме Новгорода, и в других землях князь равноставленый. Всё понимали новгородцы.
Народа, идущего навстречу седокам, становилось всё больше и больше, вот и колокола на церкви забили к обедне. Мужчины были одеты в подобие камзолов красного и зелёного цветов с поперечными нашивками, льняные чёрные или зелёные штаны заправлены в высокие сапоги. Поверх наброшены охабни – меховые плащи с откидными рукавами и красными отложными воротниками. На голове шапки-четырёхклинки из меха волка или медведя. Женщины одеты были примерно так же, как мужчины, только платье, как атрибут женственности, доходило до пят и на голове тёплая шапка-столбунец.
Великий Новгород в то время был огромным городом. Для сравнения: площадь Парижа тогда была двадцать гектаров, а Новгорода – четыреста пятьдесят, двадцать два Парижа, одним словом. На его территории могли поместиться три Рима или два Киева; только Константинополь, столица Византии, душа православного мира, был равен вольному городу. Новгородская республика была самостоятельным северноруским государством, существовавшим с 1136 года и осуществляющим самостоятельную политику независимо от Киева.
Весь город делился рекой Волховом на две стороны – Софийскую (где располагался кремль) и Торговую. Стороны, в свою очередь, делились на концы (районы), а те – на улицы. На каждой улице и в каждом конце собирались свои веча, избирались старосты. Общегородским органом власти было Вече Новгородское. Оно собиралось на площади у моста через Волхов. Когда над Новгородом раздавался гулкий звон большого вечевого колокола, сюда сходились зажиточные горожане, богатейшие бояре, простые «чёрные люди». С деревянного помоста к народу обращались правители, при обсуждении вопросов разгорались жаркие споры, случались и кровавые драки.
Недалеко от Ярославова дворища находился Готский двор с церковью святого Олава на берегу Волхова и Германский двор с церковью святого Петра, а также с пивоварней, мельницей, больничным помещением и небольшим кладбищем. Готских, германских (ганзейских), ливонских, прусских купцов в Новгороде было видимо-невидимо, лезли сюда как мухи на мёд – ни морских пиратов-ушкуйников, ни лесных лихих людей не боялись – барыш превыше всего, ничего личного-сердешного. В целом же германская община насчитывала до 800 человек. Купцы, приезжавшие на лето (Sommerfahrer), жили в Новгороде с апреля по октябрь. Прибывавшие им на смену «зимовщики» (Winterfahrer) оставались до весны. Зимняя «смена» считалась более выгодной, так как совпадала с сезоном заготовки пушнины.
Отец с сыном проследовали на одну из тихих улочек Новгорода, и Мстислав сказал:
– Сынок, темнить не буду, скажу как есть, хоть что-то холодное навалилось на душу, чур меня! Дома сидеть – ничего не высидеть. Хочу тебя в Неметчину отправить, на ихнее поученье. Язык другой узнаешь, знания, которых у нас не сыщешь, да и недалече совсем – три седмицы обозного хода. Может, бойчее станешь, тебе лямку княжью тянуть, я не вечен, ненароком стрела попадёт в чело – и о тебе думать некому будет. Мать твоя половецких кровей, крепкая как камень, но и она баба, а не бабе мужчину воспитывать. Давай так: год даю тебе на чужбине пожить, волком от тоски выть начнёшь – так и быть, заберу обратно. Но это срам на мою голову, посему стисни зубы и терпи ученье три полных года, потом женю. Народ учёных людей шибко уважает. Хотя многие подумают: «Почему не в Византию?» Но у меня свой интерес, не понять им, хоть и равен путь, но маеты поболее. И помни, ты – русич, себя в обиду не давай, и первая заповедь: в какой народ придёшь, таку шапку и оденешь. Ну как, по рукам?
– Боязно, батюшка, в чужедалье ехать, но, если надо, всё сдюжу, не беспокойся.
– Добро молвишь, не по годам зрело. Сейчас к матери поедем – и с Богом! Завтра купеческий обоз в Саксонию идёт, там родня столетняя, ещё от Всеволода Ярославовича, жила, а потом перебралась в Ахен, а это уже Лотарингия, это так ихние княжества обзываются. Так мне учёные люди объяснили. Я их и в глаза не помню, но кровью родственной мы повязаны, только дары от нас и любят принимать. Можно морем, конечно, но ветра ноне сильные, бережёного Бог бережёт. Жить будешь в доме Агнессы, моей троюродной тётки… Или постой – двоюродной?
Затем улыбнулся и заметил:
– Мы, князья, должны знать свою родословную, иначе как землю наследовать?
Потом весело посмотрел на Юрия:
– С подарками поедешь, не Христа ради, хорошо примут, ты не сумлевайся. Письмо просительное справим на хорошей хартии заморскими красками. Да и должок у них перед нашим предком – Мстиславом Владимировичем Великим, да ты не вникай, Юрий, это дело тёмное и тебе неведомое.
– Тять, а город как называется, где я учиться буду? И кто со мной поедет?
– Город прозывается Ахен, али ты пропустил? Город затейный, что ни шаг, то съестной да питейный. Шучу, конечно. Там учёная академия есть, говорят, даже медведя обучить могут. Пестун с тобой поедет, Евпатий, куда же без него. Он старый дружинник, силушку ещё не растерял, тридцать шесть годков всего, бездетный вдовец, тебя любит, но и строгостью я его своей наделю. Так что, Юрий, если врежет тебе Евпатий по макушке, за дело конечно, знай – моя это рука. Без строгости нельзя, а то выйдет размазня…
В первый весенний день 1212 года по юлианскому календарю из Великого города Новгорода в сторону Неметчины выдвинулся купеческий германский (вендский, вестфальский, саксонский, прусский, ливонский) обоз, гружённый пушниной (в основном белка, соболь, норка, куница), воском, мёдом, кожей, рыбой. Обратно планировали немецкие купцы – «летние гости» (Sommerfahrer), как их называли русичи – дойти до Новгорода морским путём через портовый Любек, везя в Русь западноевропейские ткани, свинец, цветные металлы, стеклянные изделия венецианского производства, соль, вино и слитки серебра. Купцы сильно рисковали – путь по суше был несравненно опаснее, чем по морю, да деваться некуда, товар скопился, не ждёт, обороты большие, одним морем не управишься. По территории Руси северо-западной князь Мстислав Удатный охранную грамоту дал, а по Европе у них такая же грамота от самого императора Священной Римской империи Оттона IV Брауншвейгского имеется. Да ещё князь Удатный три десятка верховых вооружённых богатырей одолжил, чтобы, значит, можно было от всякого мелкого отребного сброда отбиться. Княжич Мстислава с ними, до Ахена едет, на поученье, охрана обоза усилена, соответственно – ну и рисковый отец Удатный, однако! В дороге всё может случиться, несмотря на охранные грамоты, но у германцев Бог, у руских Бог – значит, не одни они, а с Богом!
Юрий Мстиславович ехал посреди обоза на своей белой кобыле, которая только сегодня обрела имя, подаренное ей пестуном Евпатием, – Тётка. Почему Тётка, а не иначе, Юрий не вдавался, поселилась неведомая ранее тревога в груди, думы печальные, лица разные мелькают перед глазами, особенно озабоченное лицо матери, которая при нём сказала отцу:
– Мстиславушка, что же не подождал ты весны поздней, а там морем на корчи поплыл бы сын наш сердешный в другие края. А ты через лес его дремучий направил с дружиной малою! Что купцы иноземные? Разве они защитники? Да и батюшка мой, Котян Сутоевич, не шибко рад этой затее, говорит: «Что ученье ваше – была бы голова на плечах».
И ответ отца:
– Да, рискую я, не спорю. Но ведь ходят же купеческие обозы посуху, товар весь целёхонький. Правда, не всегда… А морем, поди, не знаем, какие ветра будут, да и сноровку морскую иметь надобно, иначе тошнить будет с непривычки. А тут дружина малая, но славная, в боях проверенная. Да две грамоты охранных у них есть – у ольдермана, старосты по-нашему, Золлингера. Хитрый бестия, сам похож на разбойника, говорит, все его знают на торговых путях – и сброд, и род. А тесть гневается – так не в степи же Юрию учиться, у него в степи академий нет. Так что, мать, Бог не выдаст, свинья не съест! Благословляй!
Мать подошла к Юрию с иконой Николая Чудотворца, перекрестила ею и тихонько на ухо сказала:
– Через год весточку дай через германских купцов, что сыт по горло ученьем иноземным, хочу домой, мол, спасу нет! Я тебе и невесту присмотрела, ох и девка ладная, из княжьих, красоты невиданной. Но не скажу кто, это секрет. А наш отец всё воюет и воюет. Такой же дед твой Котян, судьба у них по жизни ратная. Ну, с Богом, сын. Помни: за морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да своё…
– Не грусти, княжич, – послышался голос пестуна Евпатия, – мир поглядим да себя покажем, за нами дело не станет!
Юрий очнулся от воспоминаний, стало легче на душе, он огляделся вокруг: обоз шёл ровными рядами, с новгородскими дарами, дружина ехала с двух сторон, все были веселы, слышалась германская и руская речь, перемешанная со смехом, и он подумал: «Не один я в этом мире, пронесу свой крест сполна и вернусь домой к отцу и матери. Но другим».
Белая кобыла Тётка, пританцовывая, заржала протяжно, и Юрий, сын Мстислава Мстиславовича Удатного, погладив её по холке, крикнул высоким юношеским голосом:
– Вези, родимая!