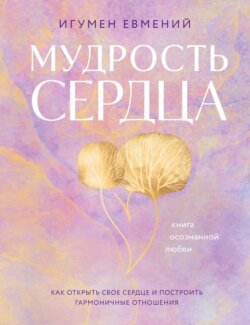Читать книгу Мудрость сердца. Книга осознанной любви - Игумен Евмений - Страница 5
Диалогичность
ОглавлениеМногие люди чувствуют себя непонятыми и непринятыми в жизни, такими, какие они есть. И во многом это происходит оттого, что они не уверены в том, что то, что ими переживается внутри, имеет ценность и значимость. Это происходит во многом оттого, что в детстве, в процессе, который называется социализацией, с их потребностями не считались, им говорили «как надо». Взрослым было вовсе не интересно, что же там, внутри нас, происходит.
Стоило взрослым несколько раз сказать плачущему ребенку: ≪«Закрой рот», «никого не волнует, что ты хочешь, а чего нет», и мы (будучи детьми) затыкались, понимая, что наш внутренний мир никому не интересен. Нужно быть хорошим мальчиком (или девочкой), а для этого полностью соответствовать ожиданиям взрослых. Таким образом, мы предали себя в обмен на одобрение и принятие взрослых.
Когда дети выросли, они стали вести себя подобным образом (с потенциальными или реальными партнерами): они не разговаривают, «стараются» и предполагают нечто о других, додумывают, вместо того чтобы спросить собеседника, поинтересоваться: понимает ли собеседник их, чувствует ли себя понятым и значимым в общем взаимодействии?
Нам так же, как в детстве, кажется, что и в партнерских отношениях нужно стараться соответствовать ожиданиям любимого человека, игнорируя свои чувства, вместо того чтобы честно и бережно говорить о себе, предъявляться, раскрывать свой внутренний мир перед ним.
Необходимо научиться спрашивать, уточнять: «Правильно ли я тебя понял?», интересоваться другим, научиться диалогу, для которого необходим баланс слушания и предъявления, умение вовремя заметить, когда партнер нарушает границы, воспринимая другого как собственную функцию.
Все чаще замечаю, как люди общаются не друг с другом, а со старыми образами друг друга, которые остались запечатленными в период первых встреч. Одним из маркеров этого является то, что спешим говорить сами – и не слышим, иногда даже не желаем услышать другого человека, хотя бы заметить по выражению его лица, как он реагирует на наши слова… Ведь, когда мы говорим, сами себе мы более интересны! Мы редко говорим друг с другом о нас, – мы говорим в основном о других, которых здесь нет с нами… А с теми – говорили о людях, которых не было рядом тогда.
Поэтому часто в конце общения – опустошенность, нет ощущения услышанности. Поэтому и бежим в Интернет – в различные блоги и соцсети, – ведь там собеседник молчит, а у нас есть иллюзия, что он «полностью с тобой».
Как писал в свое время Бернард Шоу,
«Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать…»
Поэтому и трудно бывает позвонить старым друзьям: а вдруг они будут разговаривать с устаревшей версией тебя, а не с тобой реальным (а достучаться не хватит сил)? Поэтому дорожу и бережно поддерживаю те контакты, в которых я нужен таким, каковым являюсь в настоящий момент, и в которых я готов увидеть их, моих друзей, таковыми, каковы они «здесь и сейчас».
– Полагаю, что прежде чем встретиться по сути, на глубине, люди обычно достаточно долго вглядываются друг в друга. Мне сложна коммуникация, где человек не видит моей сути, то есть ссорится или спорит со мной в своей голове, а после транслирует итоги этой дискуссии реальному мне… Тогда я делаю шаг назад и не ввязываюсь больше в эту историю. Зачем опровергать то, что мой образ в голове собеседника имеет очень мало отношения ко мне реальному? Он ведь будет доказывать мне, что его образ является истинным, и даже может преуспеть в этом!.. Поэтому я не даю ему такого шанса, прекращая общение и переписку.
У меня была одна знакомая, лайф-коуч. Я пригласил ее провести семинар в нашем Центре. На все неудобные вопросы, звучавшие из аудитории, она отвечала одной фразой, произносимой с многозначительной интонацией: «Подумай об этом», – и тут же возвращалась к собственной теме… Я не видел в жизни лучшего способа сделать полным дураком вопрошавшего оппонента.
(из личной переписки)
Именно эмоциональный аспект взаимодействия, а не обмен информацией между общающимся, является сутью и смыслом человеческой коммуникации.
Осознаём ли мы, что происходит между нами, когда мы общаемся? В процессе обмена суждениями мы:
– или противопоставляем свое суждение суждению собеседника, утверждаясь в чувстве собственной правоты;
– или обретаем общее поле взаимодействия друг со другом, обоюдно обогащая наши точки зрения.
Другими словами, или самоутверждаемся, отрицая другого человека с его «неправильной» точкой зрения, или же созидаем друг друга, находя ценность и красоту в наших различиях. Тон полемики, как говорит классик, важнее ее содержания. Совместный поиск истины невозможен, если «познавший истину» логическими доводами выталкивает на профанный уровень своего собеседника.
Пространство диалога раскрывается в совместности и согласии между собеседниками при их обоюдном желании восполниться видением оппонента. Для психологически зрелых людей обрести человека в процессе общения во много раз важнее, чем в чем-то своем его переубедить.
Чувство глубокой эмпатии и (здоровой) привязанности к конкретному человеку возникает в моей душе исключительно в смыслообразующем пространстве: в искреннем диалоге, в конструктивном общении. Когда человек прекращает развиваться в смысловом пространстве, раскрывать себя в творчестве и в диалоге, настолько погружен в собственные образы прошлого, что не видит собеседника, мой внутренний «магнит» перестает работать. Я пытался оставаться в контакте, – не выходит, даже с некогда близкими друзьями.
Пока человек остается искателем, разбирается с собой, с жизнью внутри и вовне, мне с ним интересно. Когда же он переходит на бытовой, биовыживательный уровень ценностей и мышления, душой я будто сворачиваюсь в себя и… ухожу. Мы больше не единомышленники и не «единочувственники». В слово «едино…» я вкладываю значение «вместе, в одном направлении», но ни в коем случае не «одинаково». О чем же тогда продолжать дружить/любить дальше?
И никакими словами о «верности», «дружбе», «любви» и о том, чтобы «принимать человека таким, каков он есть», моему уму душу не переубедить. Не хочется дальше вместе – и все. Дружба, партнерство, даже любовь (во мне) буквально «рассасывается». Оказалось, что верность (общей) глубине для меня важнее верности конкретному человеку, если с ним больше невозможно на эту самую глубину.
При этом из отношений я выхожу не сразу, какое-то время жду и надеюсь на то, что тот самый глубокий уровень раскроется вновь. Но потом, если не случается, я иду, мне дальше… И даже не извиняюсь на прощание. Созвучное моему настроению на этот счет есть у Цоя:
Они говорят: им нельзя рисковать,
Потому что у них есть дом, в доме горит свет.
И я не знаю точно, кто из нас прав.
Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед.
Закрой за мной дверь. Я ухожу…
– Глубинная жизнь души – очень интимное дело, и делиться этим с другими чревато: очень легко быть непонятым. Но иногда все же так хочется говорить о себе, преодолевая этот страх…
– Если у человека был какой-то яркий опыт, некое переживание, – особенно если это произошло подобно вспышке, очень хочется этим поделиться с кем-либо. К примеру, человек только что открыл для себя Бога, получил опыт веры, – вот в этих состояниях сразу хочется всех обратить, всех втянуть. Пригласить своего друга, соседку, родителей. Каждая встреча человека с запредельным уникальна. Поэтому не факт, что если ты получил вспышку эмоций здесь, то такое же переживание сможет разделить другой человек.
Потребность поделиться своей душой с другими людьми присуща нам как человеческим существам. Поэтому, если мы пережили нечто, то при возникшем желании поделиться этим с другими людьми для начала необходимо внимательно посмотреть, на каком уровне сопричастности находится наш собеседник, насколько и в каком количестве он мог бы понять, срезонировать с нашим опытом. Насколько он готов это услышать в нас. Не сказать в ответ, что «тебя-там-куда-то-втянули», или «на тебя повоздействовали», или что «это какое-то безумие». Насколько человек готов услышать наши глубины, наши переживания, то, что находится в нашем сердце?
Вообще, в наше время люди не особо расположены делиться своим внутренним миром. Мы привыкли делиться внешними достижениями: кто что купил, кто куда поехал, у кого сколько денег.
Если человеку интересно именно ваше сердце, то это будет заметно даже в поверхностном общении.
Если нам интересен внутренний мир человека, то можно просто спросить его: «Что с тобой происходит?.. Что тебя сегодня волнует?.. Как у тебя с любовью, есть ли у тебя любимый человек?.. Что ценного дали тебе твои родители?.. Кто больше других в твоей жизни поддержал твою уникальность?..» Когда мы начинаем говорить на таком языке, собеседник раскрывается, и тогда у нас есть шанс поделиться тем, что есть в нашей душе. Поделиться своим опытом без попытки втянуть или обратить в это другого человека.
Тот, кто тебя выслушал, понял и поддержал, без попытки, используя эту открытость, впихнуть пусть даже самую правильную собственную концепцию, становится важным, ценным человеком в жизни. Опыт того, что ты увиден, услышан и понят, по яркости своей не может затмить никакое иное переживание. Поэтому духовность во взаимоотношениях я понимаю не как воздействие своими «духовными» идеями на душу другого человека, а, наоборот, как максимальное благоговение к его уникальности.
То есть у «меня» нет желания продвинуть свою идею в «тебя» для того, чтобы ты стал мне более удобен, более понятен. Я с почтением смотрю на тебя и любуюсь тем, каков ты есть. И когда я увидел эти струны твоей души, может, слегка прикоснулся к ним, я умолкаю. Я благоговейно кланяюсь твоей человечности и живущей в тебе божественности.
И вот на этой святой земле может произойти глубинная встреча двух людей. И только после этого я могу поделиться тем, что меня волнует, что меня коснулось, что подняло, раскрыло и вдохновило меня. Но без намерения, чтобы с тобой это произошло таким же образом, как и со мной.
Безусловно, когда человек встает на путь духовного поиска, поиска более глубокого уровня понимания жизни и себя самого, всегда присутствуют какие-то ошибки, перегибы, максимализм: «Вот я этого не ем теперь, такие вещи не делаю…» Этот максимализм, конечно, очень важный ценный этап, но в конечном итоге, рано или поздно, человек приходит к мудрости осознавания Божьего водительства в каждом человеке, в каждом событии, в каждой встрече и благоговейно замолкает перед этой красотой.
И здесь, в другом человеке, мы снова соприкасаемся с созерцательным измерением жизни. Мы не пытаемся воздействовать на него или изменить его, а принимаем всё так, как оно есть.
(из моего интервью журналу «Экология мышления»)
У святителя Николая Сербского встретил глубоко созвучный моему мироощущению отрывок:
«Когда человек заговорит с тобой, не думай о его теле, не осматривай его внешность, а смотри ему в душу, вживайся в его сущность – и тогда будешь его понимать. И когда ты говоришь с человеком, не думай ни о своем, ни о его теле, а думай о своей душе и его душе, повторяя про себя: “Это душа душе говорит, душа с душой общается”. И тогда ты почувствуешь присутствие Бога между вами. И будешь понятым и понимающим».
– …Все дело в том, что отношенческие вопросы люди, в своем большинстве, пытаются решить не в диалоге, а в своей голове. Поэтому-то и рвутся долгосрочные отношения, уходят старые друзья…
Более того, иногда в процессе беседы в свои «выводы» относительно собеседника они пытаются втянуть его, мол, «все именно так на самом деле, я же чувствую»… А поговорить? А сказать о себе, почему для тебя это важно? Чего бы хотела ты? И как тебе со мной? Открыть все свои карты, перестать играть, выигрывать…
Если уж дальше невозможно вместе, – другое дело. Тогда бережно проститься. Но в диалоге, а не в голове своей…
(из личной переписки)
– Чаще всего человек, видящий «нечто» в другом человеке, видит только свои ожидания и проекции. Без реальной перепроверки «так ли это?», вне честной коммуникации с человеком видящий обречен скитаться в лабиринтах собственных проекций. Но большинству из нас другой человек неинтересен, а то и опасен. Ведь если вы его/ее увидите и по-настоящему узнаете, это может поколебать вашу устоявшуюся картину мира.
Поэтому я искренне верю вашему видению меня, для вас оно – правда. Только при таком настаивании («что бы вы ни говорили, а я все равно вижу, как оно есть на самом деле») не может родиться общая правда. Другими словами, не появится наша общая реальность, то есть дружба. Впрочем, если я правильно понял вас, вопрос таким образом и не ставится…
(из личной переписки)
– …Вы вроде бы задаете вопрос, но мне здесь совсем не остается места для ответа. Ведь вы себе уже все объяснили. Вроде бы спрашиваете, но в вашем тексте нет ни вопроса, ни даже знака вопроса в конце сообщения. Вопрос ведь – это не столько правильная формулировка, сколько открытое состояние души. Именно в это открытое состояние души, в эту осознаваемую недостаточность приходит ответ. Ответ не как текст или информация, а как жизнь, которая вливается в высвобожденное вопросом пространство. Ответ – это возможность порассуждать вместе. А в вашем тексте уже читается ответ на то, что вы называете «вопросом», адресованным мне. Собеседнику, роль которого вы отводите мне, просто нет здесь места. Поэтому возвращаю вам ваш текст, перечитайте его внимательно сами.
(из личной переписки)
Если человек много говорит, при этом заявляя, что он нуждается в помощи, ему вряд ли возможно помочь. Созревший для того, чтобы услышать и принять помощь, всегда краток. Если человек, задав вам вопрос, не выдерживает вашей паузы, трудиться душой для того, чтобы ответить ему (из глубины, а не из ума), не имеет смысла.
Смысл любого сообщения не в том, что оно, по вашему мнению, означает: смысл его в той реакции, которую оно вызвало в собеседнике.
Если вы пытаетесь сделать кому-нибудь комплимент, а он чувствует себя оскорбленным, то смысл вашего сообщения – это оскорбление.
Если вы говорите, что он обиделся, потому что вас не понял, вы оправдываетесь таким образом в вашей неспособности к общению. Но суть самого сообщения все-таки оказалась оскорблением.
Вы можете, конечно, оправдывать и объяснять происходящее, но вы также можете извлекать из него уроки.
Если я произношу ту или иную фразу, а она воспринимается как оскорбление, то в следующий раз я могу изменить мой способ донесения. Если же я хочу в дальнейшем оскорблять этого человека, то я в точности знаю, как это делается!
Сомнение в собственной правоте – необходимое условие для того, чтобы отношения оставались живыми.
Если человек уверен в том, что только он 100 % прав, и ориентируется только на свои чувства и понимания – это начало смерти отношений.
Чтобы сомневаться в собственной правоте, нужно уметь принимать себя и неправым, а это (для неуверенных в себе людей) очень страшно. Как здорово, когда близкие люди за непоколебимой правотой видят реальные страхи и помогут их преодолеть! А это действительно очень трудно – вернуть жизнь в те отношения, которые важны, но из которых пропала искра жизни, потому что я настаивал на своей стопроцентной правоте…
Чувство собственной правоты при неслышимости правды собеседника проистекает из глубокой неуверенности в себе.
– Диалог возможен только в случае неуверенности в собственной завершенности каждого из собеседников. Когда я осознаю, что моей правды мне недостаточно, мне нужна еще и твоя. Когда собеседники искренне ищут большей правды – одной на двоих. Как только достигнуто полное согласие, повод для обмена словами исчезает, можно вместе помолчать. Но это уже совсем иное молчание, оно отличается от молчания «собственной правоты» или «молчания игнорирования», создающего напряжение между двумя людьми.
– Интересно, а истинные мастера тоже ведут диалог с конкретным человеком, с аудиторией из состояния неуверенности и незавершенности? Мне кажется, они просто являются «каналом» для чего-то высшего… Вероятно, стоит озвучить, что вы имеете в виду в данном случае под диалогом…
– Мастерство проявляется именно во взаимодействии, высшее – в доверительном общении. Об этом и «Диалоги» Платона, и Евангелие – это постоянные разговоры учителя с вопрошающими, так же как и древние ведические тексты, в которых метафизические истины изложены посредством общения учеников и гуру.
Критерий мастера – в другом он видит ту же глубину, то же высшее, каковое проявляется и в нем. Если мастер недиалогичен – это уже диагноз: он сам задает себе вопросы и сам же отвечает на них, собеседник ему не нужен. «Ученики» являются лишь зрителями в театре одного актера.
Высшее же проявляется лишь как отклик доверия между глубинами двух индивидов.
(из личной переписки)
Особенность творческих людей – когда люди повсеместно признают их гениальность, – со временем они перестают слышать других, оставаться диалогичными.
Слушатели для многих из них – только повод для того, чтобы обрушить на них свои гениальные идеи, вовсе не видя их как таких же, как они, полноценных людей. Высшая гениальность (по-моему) – открыв свой внутренний поток, оставаться в диалоге с другими людьми, сохранять искренний и живой интерес к ним.
Когда замечаю, что в некогда диалогичном человеке начинает разворачиваться самоуверенность с ощущением своего превосходства над другими, дружески хлопаю по плечу: мол, «забронзовел ты что-то…» или «возгурел»… Если обижается, если относится к подобным репликам без чувства юмора, если в нем зашкаливает чувство важности, – приходится расставаться.
Когда смотришь интервью или лекции разных людей (сегодня только ленивые не записывают видео), иногда остается такое же впечатление. «Гуру» регрессируют своих слушателей до уровня детей или несмышленышей. Учителя же всегда заинтересованы в диалоге.
Один из ядов коммуникации в наши дни – второй смысл сказанной фразы, то есть наделение собеседника собственным страхом неискренности. Беседа оборачивается игрой в «остроумие», желанием оказаться «правее», жаждой победы и умалчиванием части информации для того, чтобы сказать ее в момент, «когда другой не будет ожидать этого». Отсюда вытекает, что у второго собеседника появляется недосказанность, боязнь открываться, опасение быть увиденным.
В таком общении нет свободного течения мысли, есть стратегия, лавирование, «страх обидеть», «страх потери контакта» и бесконечная дипломатия.
Противоядие в ведении разговора из собственного центра, прямое доброжелательное общение и вербальное послание: «я произношу только то, что имею в виду». Стоит уточнять у собеседника, что он имеет в виду, если слышно рассогласование между тем, что он говорит, и тем, как он говорит; отказаться от игр и двусмысленностей: больше пауз, больше пространства для другого, предельная теплота в голосе.
Предполагаю, что мы все скучаем по такому общению.
– …Иногда мне приходилось слышать от тебя: «Я не хочу чувствовать себя виноватым», «Не надо навязывать мне чувство вины…». Помнишь, мы говорили с тобой о том, что существует как воображаемая вина (невротическое чувство вины), так и реальная вина? Пообещал и не сдержал слово – вина; подставил человека, который походатайствовал за тебя, – вина; «вскрыл» девушку, обнадежил и свалил, а у нее осталась рана в душе – вина; ушел от любящей жены к новой любви, а она страдает – вина… Допустим, у тебя новая любовь, а там у человека душа кровью истекает, она плачет и злится на тебя. У тебя новое «счастье», и вину за то, что причинил боль, ты просто-напросто вытесняешь и игнорируешь. Не хочешь испить вину, из-виниться, излечить («Она дура, опять прицепится, ну на фиг…»). Так ведь и следующая любовь твоя чувством женской солидарности понимает, что ты так же можешь с ней поступить.
Последствия любой неискупленной или отрицаемой вины приходится пережить позднее. Этот бумеранг работает с некоторой задержкой. Если ты вычеркнул из жизни человека – со временем в другой ситуации тебе придется пережить то же самое: вычеркнут и тебя; ты кинул друга в трудную минуту – так же поступят с тобой; ты причинил обиду и не извинился – жизнь тебе обязательно покажет, как это переживается на примере твоей же ситуации. Вселенная сохраняет принцип баланса и работает как часы.
Ведь это твой мир: причиняя вред чему-то в нем, ты причиняешь прежде всего ущерб себе.
Вычеркивая из жизни кого-то, кого любил, с кем был близок, ты создаешь прецедент того, что так же поступят и с тобой.
Выход прост: извиниться, исцелить собой, закрыть собой все недовольства и обиды, причиненные тобою. Только не формально, а душой. Это был бы поступок сильного человека. Сильные люди, попадая в сложные отношенческие ситуации, РЕШАЮТ их. Слабаки вытесняют, делают вид, что забывают, и бегут к «новым свершениям», но на самом деле они бегут от себя.
Я не знаю, как об этом сказать тебе. Когда-то ты верил в духовные законы жизни, потом – в психологические законы, сейчас, кажется, не веришь уже ни во что. Только иногда больно близким людям вокруг тебя. Ты ведь умеешь притягивать, располагать и, поигравшись, взяв все, что тебе было нужно, бросаешь жестко, неожиданно для человека. И, конечно, с «навязываемым чувством вины» ты научился работать: вытеснять и защищаться! Так что мне сказать тебе нечего, ведь я знаю, – научен горьким опытом, – ты будешь и мне жестить в ответ, а ссориться с тобой я не хочу…
Если ты прочтешь эти строки и подумаешь, что это о тебе, то, скорее всего, так и есть. Если захочешь вместе дорешать жизненную задачку, от решения которой ты пытался сбежать, – обещаю, что буду рядом.
(из личной переписки)
«– Между нами сегодня будто что-то оборвалось… давай поговорим… мне есть что сказать тебе. Помнишь, когда мы были в гостях, ты…
– А у меня с тобой все нормально, у меня в душе мир. Вечно ты делаешь из всего проблему. Тебе ничего и сказать уже нельзя…
– У тебя все нормально, но ведь у нас ненормально.
– Меня уже достали твои концепции, не втягивай меня в свои проекции и переживания».
Мне пересылают этот диалог с вопросом: «Есть ли шанс у этих отношений?» Молчу как рыба. Не отвечаю. Через три часа тот же адресат пишет:
– Спасибо за ответ, он красноречивее любых слов.
«– Как ты? Как себя чувствуешь?
– Если честно, плохо.
– Что я могу для тебя сделать?
– Ничего. Ты и так все делаешь».
Что стоит за этим диалогом? Нежелание второго попросить (взять). Чаще всего мотивировано страхом необходимости «расплатиться» за сделанное по его просьбе. Такой вопрос некоторых даже пугает… Нередко над близкими или дружескими отношениями в современном мире висит дамоклов меч необходимости «взаиморасчета». Мы боимся попросить, потому что не знаем, какой будет выставлен счет за то, что другой нам даст или сделает для нас. Боимся, что другой даст «слишком много». Не знаем, в какой «валюте», в каких категориях мы будем «должны». И поэтому предпочитаем ничего не брать, чтобы не пришлось расплачиваться.
Иногда люди в ответ на «Что я могу для тебя сделать?» говорят: «Просто побудь со мной». Но это достаточно затертый и стандартный ответ. В нем нет творчества и приглашения. Все дело в том, чтобы уйти от стереотипных просьб и озвучить какую-нибудь конкретную.
Упростить ситуацию возможно простым осознаванием того, что и тот, кто в роли просящего (берущий), и дарящий и дают, и берут одновременно. Я хочу дать, и при этом ты мне даешь уже тем, что принимаешь нечто от меня. И если я беру у тебя, я даю тебе тем самым. Поэтому найди в душе хоть какую-то просьбу о некоем действии. Если ты попросишь о нем кого-то другого, то шлюз сопричастности между вами может открыться.
Открытость, согласие человека на то, чтобы «давать» и «брать», являет собой смиренное согласие с жизнью, как она есть, то есть с непрерывностью ее движения. Закрытость на обмен (при наличии общения) прочитывается как подсознательное движение в отгороженность, в отдельность, а значит, в смерть.
Поэтому несложные просьбы: «Просто проведи этот вечер со мной», «Приготовь нам поесть», «Дай 500 рублей, просто так», «Выключи свой айфон на сегодняшний вечер», «Подари вот эту книгу», «Прошу тебя, давай с тобой спланируем поездку (туда-то)» – открывают пространство обмена.
Еще одним, более глубоким вопросом для открытия потока жизни между людьми может быть вопрос: «Можешь ли ты претендовать/рассчитывать на меня?» (только без уточнения, в каком смысле). Если/когда в ответ звучит «да, я могу», можно почувствовать, что жизни становится больше.
Попробуйте это несложное действие проделать с друзьями, с любимыми людьми. Спросите и почувствуйте, что происходит с вами двумя при ответе «нет»… при ответе «да»…
– Скажи, ты согласен со мной по поводу моего выбора? Или выбор нужен только тогда, когда тебе становится плохо? Когда ты не можешь с кем-то о чем-то договориться. Ты перестаешь быть собой. Теряешь себя.
– В твоем случае выбор приходится делать тогда, когда с одним человеком ты находишься потому, что «должен любить, потому что обещал» (но там или разрушительно, или равнодушно), а с другим – реально счастлив, наполнен, чувствуешь ценность и нужность, то есть обретаешь себя, воскресаешь. И какой из них более «правильный», каждый человек решает сам. При этом очевидно, что каждому хочется жить, а не «отрабатывать» некогда данные обещания. Здесь оптимальным было бы честно перевыбирать друг друга каждый день. И еще я верю, что любовь не связывает, не замыкает человека исключительно на одном. Если «я люблю тебя, то моя любовь (по умолчанию) разливается на тех, кого еще любишь ты».
Со временем, по мере взросления, люди приходят к тому, что любые обещания актуальны на момент, когда они произносятся. Если между двумя людьми, которые связаны формальными обещаниями, уже нет уважения, взаимного интереса, желания друг друга, и не возобновить это, не достучаться… тогда зачем мучить друг друга, находясь рядом? Тем более если жизнь уже раскрылась с кем-то другим? Вроде бы очевидные вещи. Но тут включается социальное мышление: «А как же данное слово? Дети? Совместно нажитое имущество?»
Когда мы смотрим фильмы о любви (а самые интересные из них те, которые сюжетом оспаривают общепринятую мораль), мы зачастую с пониманием относимся ко всем «аморальным любовникам». А если дело касается родственника или знакомого – тут по-разному.
Один классик сказал: «Когда стоит выбор между первым и вторым любимым человеком, выбирайте второго. Если бы с первым было все нормально, вы не сказали бы второму, что любите его».
Вот сам пишу тебе и замечаю, как кричит во мне социальный ум, мол: «Ну что ты такую вот аморалку человеку гонишь? Ты, утверждавший в своих текстах ценность верности…» На что я еще раз отвечу: «Я и по-прежнему утверждаю ценность верности любви. Если любовь тут уже не проявляется, если львиная доля душевных сил уходит на то, чтобы “строить отношения”, то зачем оставаться вместе?»
Самое главное – не ошибиться именно в этом: в том, что это именно целостная любовь к человеку (а не к какому-то одному его фрагменту), к его каждой клеточке, каждому проявлению его души…
Любовь выводит нас за пределы временны́х рамок, над ней не властен ни возраст, ни расстояния, ни иные второстепенные различия… Есть только ты и я. Но дальше (после того как любовь между двумя людьми случилась) любящим людям приходится смотреть, смогут ли они жить вместе в одном жизненном пространстве. И вот здесь могут проявляться самые разные решения… Во что это выльется в каждом конкретном случае, предсказать невозможно. Но в каждом случае (как бы ни развернулись события) это любовь, проявляющаяся в нашей жизни иногда через встречи, иногда через расставания. И я каждый раз благоговею перед ее тайной.
(из личной переписки)
Есть такие слова, сказанные другому человеку, на которые ему необходим немедленный отклик. Если они не произносятся вовремя, душа откатывается назад, возвращается в себя.
И при этом важно сохранять баланс между контактом с собой и контактом с другим.
– Мы конечно же, можем в переписке делиться цитатами, песнями, фильмами, делать репосты высказываний интересных людей. Но, по сути, настоящее общение – то, с помощью которого возможно согреться и ощутить сопричастность друг другу, наполниться, развернуться, заискриться. Это когда ты сам, здесь и сейчас, рождаешь живое слово для лично меня, для человека, который сейчас напротив, который и есть твой самый ближний. Слово из глубины, из сути, твое слово для меня, лично. Если же это не так, мне не хочется тратить время на встречу, на переписку. Все в большей степени становится жаль времени на просто «встретиться и поболтать» со старыми знакомыми.
– Дай, пожалуйста, свои критерии, когда тебе с человеком скучно и неинтересно.
– Мне скучно и неинтересно с человеком, если:
* общение модульное – штампованные, ничего не значащие фразы или же «правильные», но не пережитые слова;
* собеседник не выходит из роли (учителя, терапевта, «духовной личности», эксперта по жизни, специалиста по отношениям, крутого пацана или жертвы жизненных обстоятельств… и т. п.), но сам по себе не виден, никак не готов на то, чтобы поговорить с ним без масок;
* человек рассказывает (и в процессе рассказа не проживает) свои бесконечные истории из прошлого, старые анекдоты, заготовленные «умности»…;
* человек не видит, не замечает, с ним ли я, интересно ли мне то, что он говорит, настолько погрузившись в «свое», интересно ли сейчас нам вместе или только ему;
* в разговоре нет честности и прозрачности, двусмысленное такое, знаете ли, общение: собеседники в курсе, что что-то не договаривается, а спросить или сказать об этом явно никто не решается;
* с человеком мне невозможно в полной мере выразить себя: дистанция от собеседника – и в связи с этим невольно возникающее чувство самоконтроля, чтобы «лишнего не ляпнуть», а значит, все говорится «в правильном русле», и потому общение вялое и неинтересное…;
* присутствуют табуированные темы: люди, имена, события, которых не упоминаем, чтобы опять не поссориться…;
* человек не вполне с тобой: уже вроде тема разговора глубже пошла, уже вот вроде по сути говорим… Вдруг телефонный звонок – и его уже нет рядом, а ты стоишь весь раскрытый… Теперь заранее замечаю таких людей: чуть что – убегут к телефону. Глубоко с ними не иду;
* человек не выдерживает интенсивности общения. Если разговор переходит к сутевым вещам, собеседник склонен то ли заболтать, то ли схохмить, то ли убежать или перевести тему;
* в случае, когда минут через 20 после начала разговора у меня непроизвольно возникает зевота. Я, конечно, пытаюсь убедить себя в том, что мне еще интересно, но тело не врет, – мне действительно скучно;
* когда ничего нового по содержанию друг другу мы дать не можем, но все же продолжаем говорить о том о сем. То есть все уже известно, банально, неинтересно. За время, пока мы не виделись, человек не вырос, не развернулся, не открыл ничего нового.
Глубокое общение возможно и в переписке. Но это очень редкий дар сегодня. И я так дорожу, что могу с тобой вот так общаться, периодически расставаясь в материальном мире, будто и не расстаюсь никогда. Встречаемся, начинаем с той ноты, на которой остановились, будто и не было промежутка.
(из личной переписки)
Мудрецы Востока утверждали:
«Истина не в устах говорящего, а в ушах слушающего».
Если ты слишком привязан к своей правде,
То к твоим аргументам примешивается энергия эго,
И в таком случае ты по-любому не прав,
Поскольку бо́льшая правда тебя не интересует,
Ты хочешь доказать мне, что не прав я,
И оттого я тебя не слышу
(кому же хочется оказаться в дураках?).
Бо́льшая правда не имеет отношения к тебе или ко мне.
Она никому не принадлежит,
ничьей собственностью не является.
Поэтому, если ты окажешься прав,
Я не восприму это как личное поражение,
Если же я формально окажусь прав,
Я не буду считать это личной победой.
Если ты хочешь быть услышанным, то твоя ответственность
Состоит в том, чтобы доступно донести свою правду мне.
Моя ответственность – настроиться на то,
чтобы выслушать ее.
Для того чтобы вместе с тобой открыть
То, что многократно больше нас обоих.