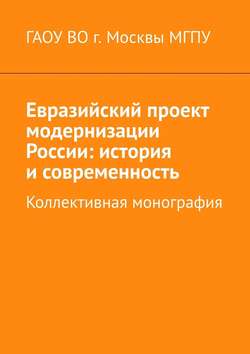Читать книгу Евразийский проект модернизации России: история и современность. Коллективная монография - Инна Алексеевна Бирич - Страница 4
Глава 1. Евразийство: генезис идей
1.1. Великий «Востоко-Запад»: проявление мифа в реальной истории (Кондаков И. В.)
ОглавлениеПодводя итоги своим полувековым размышлениям о судьбе и истории России, Н. А. Бердяев, не чуждый идеям евразийства, писал в книге «Русская идея»: «Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [2: с. 4—5]. Именно здесь была внятно и последовательно изложена наиболее трезвая и взвешенная концепция евразийства из числа рожденных в Русском Зарубежье. В ней Россия, а вместе с ней и вся Евразия представали как единство и борьба противоположностей – западных и восточных культур и цивилизаций, образующих в совокупности мировую общечеловеческую культуру.
Характеристика сообщества евразийских народов и культур носит сложный и неоднозначный характер. Во-первых, это сообщество межконтинентально (между Европой и Азией, между оседлостью и кочевничеством); во-вторых, полиэтнично (в языковом отношении образовано сложной конфигурацией славянских, тюркских и финно-угорских, а также ряда других неиндоевропейских языков – кавказских, палеоазиатских); в-третьих, поликонфессионально. Однако своеобразие евразийского культурного пространства этим не исчерпывается. Культурное напряжение, постоянно присутствующее в евразийском пространстве, определяется не только взаимодействием факторов «Запад» и «Восток», но и факторами «Север» – «Юг». Особый характер евразийского культурного пространства составляют многократные наслоения смежных культурных пространств: западноевропейского и восточноазиатского, исламского и американского, усиливающие внутреннюю противоречивость и внешнюю пограничность евразийского культурного сообщества. Этот культурный плюрализм во многом определяет и становящийся глобалитет евразийского сообщества [4: с. 27—33].
Самое первое предвосхищение евразийского проекта мы видим еще в Древнем мире – с наступлением эпохи эллинизма. Походы Александра Македонского, создание огромной евро-азиатской империи, объединившей наследие греческой античности с достижениями ближневосточных культур (египетской, месопотамской и др.); примирение греческой и персидской цивилизаций, в эру античной классики казавшихся взаимоисключающими, культурная и геополитическая интеграция Евразии того времени в культуре ранней Византии – оставил нам С. С. Аверинцев это глубокое наблюдение [1: с. 262].
В Новое время генезис евразийства восходит к глобалистским утопиям Просвещения. Уже в культовых текстах раннего Просвещения – «Дальнейших приключениях Робинзона Крузо» Д. Дефо, в «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта, «Философских повестях» Вольтера, в «Персидских письмах» Ш. Монтескье, даже в «Нескромных сокровищах» Д. Дидро предпринимается попытка, нередко наивная, увидеть человечество и мир в целом не через призму одних только европейских традиций, ценностей и представлений, но и включая горизонт незападных культур (азиатских, прежде всего; реже американских и африканских). Сравнительный и сопоставительный анализ европейских и азиатских культур постепенно приводил к мысли о взаимодополнительности гетерогенных культур, необходимой и неизбежной для понимания общечеловеческой, всемирной культуры, для прогнозирования путей интеграции человечества, единства мирового сообщества. Важным текстом, предвосхищавшим евразийскую идею на Западе, был уникальный поэтический сборник И.-В. Гёте «Западно-Восточный диван», несший черты просветительского универсализма.
В России генезис евразийства своими корнями также уходит в эпоху Просвещения. На смену апологии русско-турецких войн приходит представление о единстве Запада и Востока, их взаимопроникновении – социальном и культурном. Сюжетные и характерологические экскурсы русской литературы XVIII в. в евразийскую тематику довольно редки, но представляли собой запоминающиеся артефакты. Действие трагедии А. П. Сумарокова «Аристона» происходит в Древней Персии, но царь Дарий в типично классицистическом духе излагает в своих монологах преимущества разума над страстями. Авантюрные романы Ф. А. Эмина («Похождения Мириманда») наполнены путешествиями в экзотические восточные страны (среди которых Египет, Турция, Тунис), хотя никакого проникновения в своеобразие восточных культур или характеров здесь ожидать не приходится. Историческая трагедия Н. П. Николева «Сорена и Замир» посвящена древнерусско-половецким отношениям, а действие его оперы «Феникс» происходит в гареме турецкого султана. Наконец, в творчестве Г. Р. Державина императрица Екатерина II получает титул «богоравная царевна киргиз-кайсацкия орды», который ей, урожденной немецкой принцессе, кажется очень лестным. Окружающие ее вельможи именуются «мурзами». Россия, таким образом, предстает одновременно европейской просвещенной державой и азиатской ордой. Ее всемирное значение вне связи с Востоком невозможно.
В XIX веке Восток (и отчасти Юг) в русской культуре ассоциируется прежде всего с темой Кавказа. Многие произведения Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого на разные лады обыгрывают ландшафт и население Кавказа как единое целое с Россией; это природное, этническое и культурное единство дается трудно, противоречиво: до начала ХХ века читателю русской литературы остается неясно, то ли Россия подчиняет себе Кавказ («Кавказ подо мною…»), то ли Кавказ навсегда берет Россию в плен («Кавказский пленник» – от Пушкина до В. Маканина). Кавказ надолго становится символом русского Востока, в котором единство и борьба противоположностей оказывается механизмом евразийской интеграции на Юге России. Так обстоит дело и в русской музыке – от Глинки до представителей «Могучей кучки» и от А. Глазунова до С. Прокофьева.
Во второй половине XIX века евразийская идея приобретает новые очертания. Во-первых, славянофильское понимание Востока как всемирного славянства, противостоящего романо-германской Западной Европе, показалось недостаточной альтернативой Западу, и К. Н. Леонтьев в борьбе со всемирной опасностью либерально-эгалитарного прогресса, идущего из Западной Европы вместе с революционными настроениями, предлагает ориентацию сначала на Византию. Но Византия уже давно не существует в реальности, она иллюзорна и потому не является сплачивающим образцом для славянских народов. Тогда он разворачивается на настоящий азиатский Восток (Турцию, Персию, Индию и др.), поскольку национальное творчество в этих странах доминирует над подражанием Европе и европеизму. Россия и все славянство предстают в этом глобальном контексте своего рода межеумочным культурным пространством – между Западной Европой и азиатским Востоком, т.е. как Евразия. В своем стремлении к глобальному отчуждению от Запада леонтьевская Россия начинает медленно дрейфовать в сторону Востока, оставаясь при этом Россией и наследницей Византии.
Во-вторых, на базе тех же почвеннических идей, у Ф. М. Достоевского складывается концепция «всемирной отзывчивости», которую он развивает применительно к творчеству Пушкина, но экстраполирует и на всю русскую культуру. По Достоевскому, противоположность западничества и славянофильства уже не покрывает своеобразие русской культуры, которая призвана собою интегрировать человечество в целом, включая Европу [3: с. 145—148]. В последующей интерпретации В. С. Соловьева эта идея Достоевского трансформируется в концепцию «трех сил» мировой истории, где первой силой, демонстрирующей господство общего над частным, является метафорический Восток; второй силой, олицетворяющей приоритет частного над общим, оказывается Запад; третьей же силой, воплощенной в России (и отчасти в славянстве), выражена гармонизация частного и общего, централизма и демократии, свободы и сплоченности, преодолевающая ограниченность и Запада и Востока, «снимающая» в себе их противоположность [6: с. 19—31]. Фактически Россия у Соловьева приобретает статус Евразии, смысл которой не в ее противоположности Западу или Востоку, а в их взаимной дополнительности, в осуществлении культурно-цивилизационного «моста» между Западом и Востоком. Так, у В. Соловьева рождается концепция мирового «всеединства», центральное место в реализации которой принадлежит многонациональной России.
В это же время и позднее Л. Н. Толстой в своем стремлении к объединению человечества вокруг учения Христа, не искаженного церковными интерпретациями, обращается к восточной мудрости древнего Китая (Лао-цзы, Конфуций и др.) и Индии, усматривая в русском богоискательстве органическое родство с восточными религиями, философскими и мистическими учениями. Между тем русские символисты пытались обрести синтетические формы мировой культуры на пересечении символики западных и восточных культур.
По-своему идея глобальной интеграции человечества вокруг идей мировой революции и планетарного коммунизма развивалась и начинающими русскими марксистами, видевшими в России продолжение инициатив западного марксизма и детонатор революции на Красном Востоке (в Турции, Персии, Индии, Китае и т. д.). Впрочем, универсальность лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в СССР и представление о России как стране, первой проторившей путь к социализму, как нельзя лучше демонстрировал жизненность идей глобализма и мессианизма на евразийском пространстве, как и сама евразийская идея, родившаяся в русской эмиграции, объяснявшая феномен советского тоталитаризма синтезом кочевых и оседлых традиций; восточного деспотизма и европейской революционной демократии; коллективизма и идейного централизма, перманентного насилия и жесткой военной организации.
В глазах всех, отстаивавших идеологию глобализма в Евразии, от В. С. Соловьева до В. И. Ленина и первых евразийцев (Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Вернадского и др.), универсальность Евразии как «месторазвитие» глобализации объяснялась ее принципиальными полиэтничностью, поликультурностью, поликонфессиональностью и полилингвистичностью. Например, Россия – самое обширное по территории и численности населения евразийское государство – представала как «мир миров»: по степени интегрированности в ней различных народов, их культур и верований, по уровню сложности подобной интеграции, сопоставимой со всем мировым сообществом, а значит, являла собой модель социокультурного всеединства и глобализации в свернутом виде.
Этим евразийский глобалитет (мера сопричастности множества смежных локальных культур Евразии – мировой культуре как целому) был по своей структуре и смысловому наполнению несравненно ближе глобальному культурно-цивилизационному всеединству, нежели другие, более однородные и непротиворечивые глобалитеты (западноевропейский, латиноамериканский, дальневосточный, исламский и др.), за исключением только, быть может, собственно американского [5: с. 135—143].
Этим объяснялась жизнестойкость биполярного мира, державшегося на глобальном паритете США и СССР – при нейтралитете «третьего мира» неприсоединившихся стран. Этим объясняется сегодня и бросающаяся в глаза несовместимость евразийского глобалитета с западноевропейским и американским, а также, по-своему, с исламским и во многом с дальневосточным (китайским, корейским и японским). Евразийский глобалитет, при всей своей противоречивости, держится на поддержании цивилизационного «взаимоупора», парадоксально соединяющего противоположности и удерживающего хрупкое равновесие гетерогенных культур в интегральном целом (подобном РФ или даже СНГ).