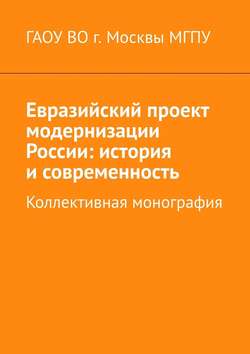Читать книгу Евразийский проект модернизации России: история и современность. Коллективная монография - Инна Алексеевна Бирич - Страница 6
Глава 1. Евразийство: генезис идей
1.2. «Византизм и славянство» К. Н. Леонтьева в контексте понимания восточного вопроса (Агуреев С. А.)
ОглавлениеК. Н. Леонтьев – выдающийся русский ученый-евразиец, историк и писатель, публицист и литературный критик, автор концепции «византизма» как русской национальной идеи исходил из понимания важности Восточного вопроса, который по его мысли мог превратить Россию в центр притяжения для всех славянских народов. Восточный вопрос поднимался в работах крупнейших российских писателей и историков своего времени, видевших в нем решение главной исторической задачи России в помощи славянским народам, находившимся, под гнетом Османской империи. Еще С. М. Соловьев указывал на необходимость освобождения славянских народов Российской империей, рассматривая соперничество цивилизаций как двигатель исторического процесса. Однако первым кто поставил вопрос об историческом противостоянии России и Запада стал Н. Я. Данилевский в своих работах «Россия и Европа» [3], где он выступил с идеей о перемещении центра мировой политики к главному противоречию современной истории – соперничеству славянства и латинства. Решение данного противоречия виделось Н. Я. Данилевским в установлении контроля со стороны России за Проливами и в переделе наследства Османской империи.
Н. Я. Данилевский одним из первых российских ученых пришел к выводу о бесперспективности любой идеи «встраивания» России в Европу, что определяется антагонизмом славянства и латинства, а в контексте Восточного вопроса получает геополитические очертания. Сделанный более 100 лет назад Н. Я. Данилевским вывод об особой значимости Восточного вопроса для России и сегодня сохранил свою актуальность в условиях, когда страны Запада, следуя в фарватере американской политики, всеми силами стараются окружить Россию барьером из недружественных государств и вновь возродить противоречия, казалось, забытого Восточного вопроса уже в зоне Черного моря и фактически вернуть Россию к временам Парижского мира 1856 г.
Следует отметить, что именно обсуждение Восточного вопроса привело к возникновению самобытной школы российской геополитики, представленной именами таких видных ученых как А. Е. Снесарев, К. С. Аксаков, В. П. Семенов-Тян-Шанский, П. А. Чихачев, С. Н. Южаков, В. И. Ламанский, Д. И. Менделеев, Л. И. Мечников [5]. Однако в отличие от большинства геополитических концепций Западной Европы того времени, российские геополитики осмысливали тематику Восточного вопроса в контексте не стремления к владычеству, как это приводится в известной маккиндеровской схеме, и не с точки зрения расширения «жизненного пространства», как мы это видим у Т. Ратцеля, но как защиту своих собственных границ, порожденную стремлением не допустить монополии какой-либо европейской державы в зоне интересов Российской империи и запереть ее в Черном море [1: с. 61]. Особое звучание проблема Восточного вопроса получила в труде адмирала А. Т. Мэхэна «Влияние морской силы на историю», где была выделена роль Средиземноморья в международной политике, т. к. после строительства Суэцкого канала Средиземное море стало «ключом к британским позициям в Индийском океане». Сама борьба за Средиземное море, поэтому приобрела ключевое значение, т.к. великие всемирно-исторические задачи: «… имели предметом обладание морем и контроль над отдаленными странами, обладание колониями и связанными с ними источниками богатства». Фактически труд А. Т. Мэхэна, как и известные работы Х. Маккиндера, утверждали особые права англосаксов на владение Средиземным морем [1: с. 62]. Тематика Восточного вопроса получила развитие и в отечественной историографии. Так, особо следует отметить сборник статей под общей редакцией Н. С. Киняпиной, в котором нашли отражение основные противоречия ведущих европейских держав и Российской империи [2].
Вопрос о будущем наследстве Византийской и Османской империй уже в середине XIX в. превратился в узел международных противоречий. Российский публицист и историк, крупнейший представитель российского евразийства XIX в. К. Н. Леонтьев также оставил ряд научных трудов, посвященных решению Россией Восточного вопроса, основным из которых, является работа «Византизм и славянство». В целом, научные взгляды К. Н. Леонтьева получили подробное отражение в работах российских историков, среди которых наибольшее научное признание получили работы советского историка Н. А. Рабкиной [6, 7]. Подробно раскрытыми в отечественной историографии являются и вопросы, связанные с развитием концепции «византизма» К. Н. Леонтьева, что позволяет не останавливаться подробно на этой проблеме в тексте данной статьи и сразу перейти к рассмотрению проблемы Восточного вопроса в работах К. Н. Леонтьева.
К. Н. Леонтьев в отличие от Н. Я. Данилевского обоснованно полагал, что активное участие России в решении Восточного вопроса путем разрушения Османской империи станет непоправимой ошибкой и, напротив, следует сохранять ее существование, пока не представится подходящий случай для решения Восточного вопроса. Весьма скептически К. Н. Леонтьев оценивал и передачу спорной территории Добруджи Румынии, справедливо полагая, что этот шаг оттолкнет болгар от России и направит их к союзу с Австро-Венгрией. Критически К. Н. Леонтьев относился и к односторонней поддержке Россией сербов на Балканах.
Фактически К. Н. Леонтьев приходит к выводу о том, что не решение исторической задачи Российской империи по выходу к проливам Босфор и Дарданеллы обеспечит стране могущество, а именно тесный союз с Балканскими народами из которых именно болгары могли бы стать, по его мнению, самыми преданными союзниками. Не видел К. Н. Леонтьев и немедленного решения Восточного вопроса военными методами, акцентируя внимание на развитии долговременной стратегии оказания помощи славянским народам. И лишь с решением этой задачи становилось возможным открытое военное противостояние с крупнейшими европейскими державами в лице Англии и Австрийской империи.
При этом К. Н. Леонтьев верил в возможность соглашения с Германией, указывая, что между двумя странами нет неразрешимых противоречий, в то время как основными соперниками России являются Австрия и Англия. К. Н. Леонтьев указывает на то, что без Царьграда (Константинополя – Прим. авт.) не будет славянского единства и Россия не сможет реализовать своего исторического предназначения по объединению Балкан. «…поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию», – отмечает К. Н. Леонтьев в своей работе «Письма о восточных делах» [4: с. 434]. И далее поясняет, что решение исторической задачи лежит через скорую войну с Австрией или Англией: «Скорая и, несомненно (судя по общему положению политических дел) удачная война, – полагает К. Н. Леонтьев, – долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу тот выход из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах. …новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной. Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания, а главное, необходим новый центр, новая культурная столица» [4: с. 435].
Такой столицей, по мысли идеолога евразийства, для всех славянских народов, может быть только Константинополь, являющийся символом православия и единения славян. При этом К. Н. Леонтьев исходит из такого понимания укрепления России на Босфоре, при котором Константинополь не будет политической, но духовной и культурной столицей. «… он не должен быть частью или провинцией Российской империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракии и Малой Азии (напр. до Адрианополя включительно и вплоть до наших теперешних границ около Карса) должен лично принадлежать Государю Императору; т. е. вся эта Цареградская или Византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом „union personelle“ (личном соединении – Прим. авт.) с Русской Короной» [4: с. 435]. Реализация подобного плана по мысли К. Н. Леонтьева фактически приведет к падению роли Санкт-Петербурга как столицы русского государства и к возрождению роли Киева как новой столицы Российской империи, тогда как второй столицей – центром Великого Восточного союза станет Константинополь.
К. Н. Леонтьев указывает, что это «единственно возможный исход» решения Восточного вопроса для России, но для решения великой исторической задачи неизбежно военное столкновение с Австрийской и Британской империями. «…если бы я был призван советовать, то я бы даже посоветовал довести их поскорее до этого. И лучше бы все-таки начать с Австрии; ибо тогда одно чувство самосохранения дало бы нам нравственное право направить из Карса войска к Босфору. Воюя с Австрией, мы имели бы полное право позаботиться, чтобы нашей армии никто не угрожал с юга» [4: с. 436—437]. Как тут не вспомнить написанную много позднее записку «Подготовка к войне в политическом отношении» российским военным министром А. Н. Куропаткиным, который в 1912 г. указывал, обращаясь к событиям Крымской войны: «Отсутствие открытых союзников у России и враги явные не принесли нам столько вреда, сколько предполагавшиеся с нашей стороны враги тайные, в особенности Австрия. Положение, занятое Австрией, казалось Государю Николаю I и фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу настолько враждебным России, возможность вооруженной борьбы с нею одновременно с борьбою с союзными державами представлялось настолько очевидною, что мы главную массу своих войск имели не против врагов явных в Крыму, а на западной границе против держав, предполагавшихся нашими врагами тайными» [8: Л. 49].
Предвидя возможную «нейтрализацию» Константинополя в случае распада Османской империи, т.е. превращения бывших византийских земель в территории, находящиеся под совместным управлением европейских держав К. Н. Леонтьев видел главную угрозу осуществлению главной задачи России, т.к. именно это было способно привести славянские земли еще к большей разобщенности и спровоцировать наиболее острые конфликты между бывшими вилайетами (провинциями – Прим. авт.) Османской империи. Обладая даром исторического предвидения, К. Н. Леонтьев справедливо полагал, что раздел территорий Османской империи приведет к еще худшим для России последствиям, чем неудачная Крымская война или долговременная внешнеполитическая изоляция России, т. к. решение Восточного вопроса с превращением Российской империи в мировой центр притяжения славянства станет неосуществимой.
Главный вывод работы К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство» – в том, что славянство без византизма не имеет, ни идейной, ни политической силы и лишь православие придает русской истории миродержавное значение и смысл в масштабах Евразии. Без этого российская цивилизация не смогла бы стать монолитом и центром притяжения для других народов, тогда как Н. Я. Данилевский видит в этом лишь корень антагонизма и идейного несходства с Западом и больше говорит об экспансии Европы против России, утверждая, что русская цивилизация молодая. К. Н. Леонтьев, напротив, говорит, что российская цивилизация не моложе западной, но Запад идет к своему закату из-за господства материалистических идеологий. Этот тезис получил наибольшее обоснование в очерке К. Н. Леонтьева «Средний европеец как орудие всемирного разрушения» [4: с. 488—571], где автор приходит к выводу о духовной гибели Запада с развитием феномена массовой культуры. Россия также может повторить духовный кризис западной цивилизации, если не сможет по К. Н. Леонтьеву реализовать своей исторической задачи и стать центром мирового славянства. Единственный путь к этому по К. Н. Леонтьеву состоит в том, чтобы решить Восточный вопрос и укрепиться на берегах Босфора. Таким образом, решение великой исторической задачи – Восточного вопроса является своего рода защитным механизмом от кризиса и культурного порабощения России западными идеями – капитализмом и его противоположностью – социализмом. Взгляды К. Н. Леонтьева во многом опередили свое время, а его работы не потеряли своей научной актуальности и сегодня, когда очертания Восточного вопроса в современных исторических условиях вновь стоят перед Россией.