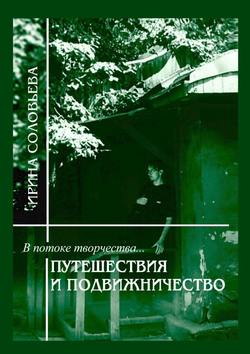Читать книгу В потоке творчества: путешествия и подвижничество. Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах и дневниках. Книга четвёртая - Ирина Михайловна Соловьёва - Страница 13
Путешествия
Странничество Терентия Травника
ОглавлениеКак не хорошо столование у частника, но все-таки больше Терентий предпочитал останавливаться в храмах, а точнее при них. Русь, сколько есть, всегда славилась своим странноприимничеством. Живо оно и по сей день, а как иначе. Храм, чай, не гостиница, а место любви Божией, вот и принимают батюшки ходоков. Постучится в дверь наш странник: «Я на богомолье приехал, можно переночевать?» Конечно можно, а как же. Иногда, Терентий, когда точно знал, что у него есть ночлег, то сразу начинал путешествовать по близлежащим окрестностям и по другим храмам, а к вечеру ехал на постой к уже знакомому батюшке. Тот был в курсе его намерений и никогда не препятствовал. Таким образом он и продвигался по своим маршрутам, «от восхода до прихода», как он сам называл свои похождения и с друзьями, и в одиночку по всей России-матушке. Все верно. Нахожу и читаю в его письме:
Истоптал, исходил, излазил,
Иссмотрел, исхватал, изгладил,
Как любимую женщину, Русь…
Из дневника поэта-путешественника:
Заметил, что сельские священники любят обильно покушать. Кстати они не только едят от души, но и готовят также. Стол отчий, буквально ломится от изобилия: и хлебушек домашний, и картошечка рассыпчатая, и соляночка с грибочками беленькими, и супчик с чесночком, и рыбка золоченая-запеченная. Яства, как правило, незатейливые, но сытные и полезные, дающие силу и здоровье. А к чаю вареньице местное подадут, пирожочки ароматные, да такие, что каждый с кулак хороший будет, а ещё медок свойский, самый что ни на есть натуральный – всё с любовью приготовлено, только знай себе и ешь!
– А молочко парное из-под коровы найдется? – интересуюсь, а сам уж знаю ответ…
– Хм, спрашиваешь! – с улыбкой отзывается отец Иоанн и продолжает, – а то и из-под козы сымеется… Сметанка, маслице – всё свое. А с огородца овощков да яблочков не желаешь? Очень хорошие они у нас, правильные, как в раю, – а сам смеется, как ребенок, доволен батюшка.
Приходилось Травнику «стопом» ездить. Надо заметить, что его с удовольствием подбрасывали мужики на попутках до места назначения. Едут, а он им историю государства российского в дороге рассказывает – все веселее. Вот так оно и шло в его жизни, как Богу было угодно, так оно и было.
К Терентию всегда хорошо относились: тепло и со вниманием и не отказывали ни в ночлеге, коль просил, ни в угощении. Зная это, друзья обращались к нему с просьбой составить им компанию, когда хотели куда-нибудь съездить на пару деньков. «Приедем, Травник поговорит с кем надо, глядишь, тебя и к столу зовут, комнатку выделят переночевать, – вспоминает приятель Терентия, художник Андрей Болотов, – относились всегда тепло. С кем другим приедешь, так и отказывают, сам видел: „До свидания“, – скажут и всё, а Терентий в открытую: „Можно переночевать?“ – спросит и всегда получает положительный ответ. Особенный он у нас».
Так всё и устраивалось: то на лавочке покемарят страннички, то в храме на полу прикорнут, а то и келейку неплохую выделят им, но чаще чердак с голубями и летучими мышами или башню стенную или лаз в самой монастырской стене. Случалось, и на колокольне поживут, но это, если только летом. «Всегда принимают, – пишет Терентий в письме к другу Сергию К., – и принимают с каким-то достоинством, сказал бы, чинно и благородно принимают, хлебосольно и от всей души».
«Кто мне скажет, что не так с Терентием бывало, – рассказывает мне Андрей П., – не поверю. А вообще-то Русь, она такая. Это мы просто сами наглеем, вот и все. Кстати, оно очень заметно в провинции, если городские наглеют. Но я это редко видел, обычно городские тихие-тихие приезжают, как и деревенские в город».
Приехала в гости к Алексеевым – к Травнику, сели за чай, разговорились. «Как-то раз ко мне домой в Москву приехали наши дачные строители, Сашки́, как мы их называем, – делится Травник, – один высокий, худоватый, а другой пониже, коренастый, голубоглазый и с бородой, эдакий русский-русский мужик. А дело зимой было. Так вот, помнится вошли оба в квартиру, стоят в прихожей и озираются, говорят, как, в хоромах оказались. Прошли на кухню, шапки меховые поснимали, сели оба, на колено шапки положили и замерли. Сидели, сидели, тут Сашка, тот что покоренастей, и спрашивает: «Как это вы, городские, здесь вообще живете? У меня и в курятнике свободней, а у вас на кухне не повернешься. У нас, бывало, выйдешь с дома, так сразу поле. Да, не позавидуешь вам, тоска, маятно в городе».
Сашки́
– Всегда вспоминаю эти его слова, – задумчиво проговорил Терентий, – лет с десять, как его не стало. Рукастый и смекалистый был мужик, до невозможности русский этот самый голубоглазый Сашка. Улыбался так, что глаза аж синевой плескались. Зубы, что перлы – крупные, белые… Здоровье лошадиное, а вот попивал. Как-то раз запил крепко он, года три «погудел», да и спился мужик… И это тоже правда наша, правда русская. Почему в России, в какую деревню ни приедешь, в какое село ни явишься, всюду одни бабы да девки, мужиков и не видно? Спились мужики-то, вот и всё. Пьянство для России, тема особая. Пить стали не меньше, а как пили, так и пьют. Пьянство оно совсем русским стало. Как-то умудрилась и соединилась русская водочка с душой русской. Заметил, что забулдыги, в основном, очень душевные люди. Они и помогут тебе, и съестным поделятся и на разговор выведут, душу раскроют, а если что, то и пошлют куда подальше».
Слушаю Травника и диву даюсь, сколько в нем знаний, сколько впечатлений – слушать не переслушать. Вечерами, когда расходимся, то возвращаюсь к его записям, дневникам, письмам. Он может особо за этим и не следил, я имею ввиду за письмами – напишет и забудет, а я вот все годы, что знаю его, собираю их. Как чувствовала, что пригодятся. Вот время и пришло – пригодились и письма, и мои комментарии к ним.
Из дневника поэта-путешественника:
Многие годы, странствуя по Руси, я, забредая в то или иное сельцо или деревеньку, обязательным долгом считал посещение местного кладбища, дабы помолиться о душах, погребенных в этих краях людей. На сегодня у меня сохранилось немало записей об этом в дневниках. Каждый раз, блуждая по погосту и вслушиваясь в его тишину, многое проявлялось в моей ищущей душе. Может эти отклики и были тем, что постепенно повлияло на мое мировосприятие, научило видеть и чувствовать через стену текущего бытия. Мое творчество во многом складывалось под влиянием этой темы. Ну как без нее, как без вопрошания о смысле своего прихода в эту жизнь. Тайна смерти будет вечной, ибо через нее человек и пробуждается, совершенствует свой путь, каждый раз находя все новые и новые ответы, приближающие его к недостижимости.
В бытность неофитства я часто ходил в Донской монастырь и там, в заброшенном некрополе, среди замшелых надгробий писал свои первые стихи, рассказы и статьи. Именно там я в начале 90-х спасался от невыносимого шума города суеты. Монастырь открылся, но был запущенным. Ощущения величия времени, так явно читавшиеся в мраморных склепах повлияли и на создание мною коллекции акварелей «Тихий свет», где немалую долю занимают работы с изображением именно Донского некрополя. бродил по кладбищу, дышал тишиной, иногда подходил к надгробиям и прикладывал к ним ухо, что-то выслушивая и так до вечерней службы. Со мной был термос с компотом, блинчики и свечи, так с молитвой и трапезой я поминал «здесь и повсюду лежащих православных». Однажды на одном из надгробий я нашел надпись. Это была черная гранитная стелла середины 19-го века. На нем не было ничего сказано о погребенном человеке, ни единого слова и лишь одна надпись золотом гласила: «До свиданiя».
Я видел камень скорбный, темный
В тени печальной строгих лип,
Тот камень – память о страданье
И скорбный глас для тех, кто жив <…>
И уходя, я оглянулся
На камень темный и сырой,
Увидел текст – свежо преданье…
Я прочитал там: «До свиданья».