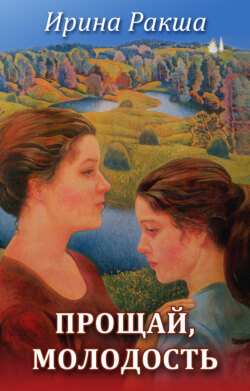Читать книгу Прощай, молодость - Ирина Ракша - Страница 6
I. Век золотой, век серебряный
Над полями да над чистыми
Эссе
Оглавление«Над полями да над чистыми / Месяц птицею летит. / И серебряными искрами / Поле ровное блестит…» Ах какая это прекрасная песня! Звонкая, развесёлая, удалая! Сколько в ней зимней свежести, морозного ветра! «Гривы инеем кудрявятся, / Порошит снежком в лицо. / Выходи встречать, красавица, / Мила друга на крыльцо!»
Так и звенят, так и заливаются бубенцы резвой тройки, мчащей по Руси, сквозь перелески и снежные поля. Мчат мила друга к его любимой! Вот радости-то будет при встрече, когда «глянут в сердце очи ясные», да глянут так, что «закружится голова»! Ведь «С милой жизнь, что солнце красное, А без милой – трын-трава. / Ну, звончей, звончей, бубенчики, / Заливные голоса! / Ой ты, удаль молодецкая, / Ой ты, девичья краса!».
Так и кажется, что такую задорную песню мог написать очень счастливый, по-русски озорной человек. И мне захотелось доискаться, познакомиться с автором этих великолепных поэтических строк. И, несмотря на то что во многих песенных сборниках эта «Новогодняя песня» значится как народная, с автором стихотворения мне, хоть и не без труда, всё же удалось познакомиться.
А звали его Александр Степанович Рославлев. И жизнь у этого талантливого человека была совсем не весёлой и совсем не счастливой.
Он родился в городке Коломна, недалеко от Москвы, в 1883 году. В двенадцать лет остался сиротой и с этого нежного, почти детского возраста должен был надеяться лишь на себя. А ведь от роду Саша записан был «потомственным дворянином». Его отец, некогда респектабельный потомственный дворянин Степан Рославлев, даже наследовал от родителей небольшое имение и владел неплохим хозяйством. Однако давнее пристрастие к «зелёному змию» всё больше портило его характер, да и всю жизнь. Не помогла избавиться от недуга пьянства и женитьба на милой и любимой женщине, которая родила ему сына Александра – очаровательного, здорового малыша и наследника. Год от года дела в доме Рославлевых шли всё хуже. И наконец пагубная страсть хозяина к алкоголю, на горе близких, привела-таки семью к полному разорению, а хозяйство – к обнищанию и распродаже. Постоянные скандалы, попрёки и слёзы жены, а главное, собственное безволие и укоры совести привели господина Рославлева к тому, что весной 1895 года он покончил с собой. Повесился. Для родных это было страшным ударом! А несчастную молодую вдову, Сашину мать, потрясло так, что она не вынесла горя и, как говорили тогда, «умом тронулась». То есть сошла с ума.
В памяти Саши навсегда останется горестное воспоминание о посещении казённой больничной палаты, куда безвозвратно определили его любимую маму. Запомнятся серые лестницы, серые коридоры, серый свет за окнами и она сама – его мама, похудевшая до неузнаваемости, враз поседевшая, с опущенной головой и крестиком на груди, не узнававшая даже любимого сына. Молча завязывала и развязывала она бахрому на ветхой скатерти убогого стола. Саше запомнились и её пальцы, когда-то прекрасные, легко аккомпанировавшие его любимым романсам и песням, скользившие в такт музыке по клавишам рояля в гостиной.
И вот – всё рухнуло. Всё кончилось. Оборвалось. Как жить дальше, Саша совершенно не знал. К тому же за три дня до трагедии, до самоубийства отца, его выгнали из гимназии с жестоким «приговором»: «за неспособность». Правда, сторож гимназии успокоил уныло сидевшего на скамейке, безутешного паренька: «Не твоя тут вина. Это родитель твой неспособен отдать долг за твоё ученье, – и погладил его по голове. – За всё, милок, в этой жизни надо кому-то платить. За всё».
А жизнь между тем продолжалась, и выживать осиротевшему подростку как-то было надо. И хотя полного гимназического образования у Саши не было, но было умение прекрасно, каллиграфически писать. А это в конторах ценилось, и именно это его спасло. По протекции дальнего родственника Саша устроился (о, удача!) писцом в Коломенскую земскую управу. На небольшое жалованье. Так началась его самостоятельная жизнь. Однако в Коломне Саша оставался недолго. Рядом, под боком, Москва с её бурлящей и шумной жизнью. Она тянет Сашу словно магнитом. И спустя год, бросив удачную, спокойную, а главное, надёжную работу, он оказывается на улицах столицы. Буквально без гроша в кармане. Зато в самой гуще, в водовороте незнакомой и интересной жизни. Юный потомственный дворянин скитается по рынкам, вместе с нищими и пьяницами спит на Солянке, на Хитровке в ночлежных домах. По найму работает грузчиком, служит на побегушках у приказчиков мелких лавок, трудится и в богатых, фирменных магазинах. Но, видно, Ангел-хранитель, оберегая, витает над ним, распахнув свои белые добрые крыла. Да и Ангел любимой умершей маменьки, видимо, тоже помогает. И паренёк выживает, не гибнет в этой низменной круговерти. И, надо признаться, его не очень-то и гнетёт, казалось бы, беспросветное существование, эта жизнь «на дне». Такой уж у юного Саши оптимистичный, лёгкий характер! Он от роду позитивен.
А не печалится он ещё и потому, что печалиться просто некогда. Теперь он… ПИШЕТ. Да-да, пишет. И с жадностью, с удовольствием. Всё больше и всё упорнее. Своим красивым каллиграфическим почерком, по вечерам склоняясь к листам дешёвой складской зелёной бумаги в свете горящих свечей, которые десятками покупает в свечной лавке. Каждую свободную от работы минуту он тратит на самообразование, на чтение газет и журналов или на собственные сочинения, которые постепенно становятся его страстью. Вначале это, конечно же, были стихи. Стихи и поэмы – подражательные, незрело-длинные. Однако не без искры собственных чувств и новизны. Позже Саша пробует писать и рассказы, и даже статьи на разные злободневные темы. И скоро это становится его горячей, ежедневной потребностью, даже страстью. В надежде на публикацию он вначале с боязнью, а потом всё смелее относит свои творения в редакции разных газет и журналов. Посылает даже в другие города по почте. Их, разумеется, регулярно возвращают. Но молодой автор, получая назад собственные пакеты с рукописями, не смущается. Он упрямо не оставляет пера и не оставляет надежд. И вот однажды из далёкого города Томска, куда он также посылал свои опусы, приходит пакет с толстым журналом «Сибирский наблюдатель». Он жадно, с бьющимся сердцем разрезает ножом страницы. И листает, листает. И – вот оно! Как удар! Опубликовано первое стихотворение поэта Александра Рославлева под названием «Ангел». Вот он!.. Помог ему его белокрылый Ангел-хранитель!.. К тому же автору «причитается получить» на почте неплохой гонорар!.. Первые деньги за литературный труд!.. Какая же это радость была! Какое ликование! За это не грех было и выпить «по чарке» с друзьями, прежде, конечно, не верившими в его литературный дар.
А потом… Потом к Рославлеву приходит настоящий успех. За несколько лет один за другим выходят 14 его поэтических сборников. Теперь он уже неплохо зарабатывает лишь только литературным трудом. Снимает приличную квартиру. Заводит кухарку. Его стихи уже постоянны на страницах московской периодической прессы. Пишет он и прозу. Например, свои нашумевшие в те годы «Записки полицейского пристава». Эта небольшая сатирическая повесть на какое-то время стала в литературных кругах столицы буквально притчей во языцех. Только ленивый тогда не говорил о ней. А молодой, но уже довольно известный критик начала XX века Корней Чуковский, человек носатый и злой, беспощадно высмеял повесть. Но и это тоже была реклама. «Написано вяло, плохо… подражательно… скверно». Молодой Чуковский так искренно досадовал на Рославлева, что посвятил его «Запискам» даже две статьи. Названия их вполне красноречивы: «Литературные стружки» и «Третий сорт». Однако надо отметить, что Александр Степанович совершенно не отреагировал на такую разгромную критику. Он её словно бы и не заметил. «Как слону дробина», – говорили друзья. А Саша и правда был большим, могуче-здоровым и очень красивым человеком. Но главное – был несокрушимым оптимистом. И продолжал, не смущаясь, работать.
В те годы он близко сошёлся с Леонидом Андреевым. Хорошо знал Чехова, Александра Куприна, а особенно «певца бедноты и уличных горемык» Горького, с его, тоже сиротской, схожей судьбой. В общем, сошёлся со всеми видными авторами того времени. Будучи по природе благодушным, открытым, сдружился даже с тем же Корнеем Чуковским. Забавно было видеть вместе этих молодых литераторов: одного – невысокого, толстого, как колобок, другого – длинного и худого, – горячо спорящих где-нибудь за столиком в клубе или редакции. Любил и почитал Рославлев и Александра Блока, кстати тоже осмеявшего его стихи, саркастично назвавшего их «эпигонскими». Впрочем, с годами Рославлев действительно стал совершенно безразличен к отзывам о своём творчестве. А всё потому, что его давно и серьёзно увлекала совсем иная, горячо захватившая душу страсть. И имя у этой страсти было женское – Революция. Он с восторгом отдался ей. Её захватывающим лозунгам, её новым веяниям и идеям. В событиях 1905 года Александр участвовал активно и даже радостно.
Поэт безоглядно верил в справедливость грядущего общества, где все должны были быть равно счастливы и, конечно же, равно богаты. Где не будет, как он уверился, одиноких людей и горьких сирот, не будет взяток, пьянства, бесчинства, бесчестья. Однако его общественно-революционная деятельность денег на жизнь не давала. Приходилось и дальше существовать за счёт литературных трудов. Приходилось, как прежде, писать на заказ для газет и журналов всякую ерунду.
Как-то в ноябре 1907 года журнал «Пробуждение» попросил его дать какое-нибудь «свеженькое стихотворение» в новогодний номер. И заплатить обещали прилично. Журнал был недорогой, непрестижный, даже несколько аляповатый. Но заказ есть заказ. Подобной халтуры у поэта и раньше хватало. И вот после вечернего чая Александр Степанович подсел к столу, макнул перо в хрустальную чернильницу и склонился к бумаге, уже дорогой и белой. Пытался вообразить себе что-то приятное, зимнее, новогоднее… Он легко представил себя юным, беззаботным, когда все были живы, и… влюблённым, каким он давно уже не бывал. И сразу же первые строки легко, даже слишком легко побежали из-под пера, красиво ложась на страницу: «Над конями да над быстрыми / Месяц птицею летит, / И серебряными искрами / Поле…» Конечно же, сколько раз он воочию видел всё это зимой. И в детстве, когда была жива матушка, и позже, бывая и в родной Коломне, и в имениях у друзей. Когда, бывало, ночью, после шумного дружеского застолья весело завалишься в сани, и кони тотчас рванут с радостной силой и устремятся в синюю даль. И куда?.. Конечно же, к милой… А над летящими конскими гривами, над звенящим поддужным бубенчиком поплывёт в звёздном небе, полетит над тобой вослед рогатый месяц в серебряной дымке. «Наша сваха – воля вольная. / Повенчает месяц нас…» Светловолосая голова Александра Степановича в золотом круге света, как в нимбе, склоняется над бумагой, и скользит, скользит по странице перо: «Словно чуют – разъярилися / Кони – соколы мои. / В жарком сердце реки вскрылися / И запели соловьи…» Всю ночь он работает: черкает, комкает листы, переписывает заново. И рождаются слова, выстраиваются строки. «С милой жизнь, что солнце красное, / А без милой трын-трава…» В этих стихах было всё: и раздольный русский пейзаж с его светлой грустью, и сама душа поэта – широкая, удалая, со страстной мечтой о собственном счастье.
К утру Рославлев наконец закончил работу. Устало откинулся на спинку кресла. Не спеша перечитал текст, строфу за строфой, и вдруг понял, что это и не стихи вовсе, а песня. Конечно же, это песня! И, подумав, добавил сверху ещё одну строчку, название: «Новогодняя песня». Потом одним дыханием задул очередную оплывшую, задымившуюся свечу и какое-то время, довольный, молча сидел в голубой предутренней тишине… «Получилось, кажется, получилось…» А через пару часов, наняв извозчика, он уже отвозил свой литературный заказ в редакцию. По заснеженной, морозной Москве, с белыми печными дымами от крыш в небо, которые словно бы подпирали сам небосвод. Волновался, конечно, уткнув нос в поднятый воротник. Как-то примут его ночную работу? Что скажут?..
И вот стихотворение А. Рославлева «Новогодняя песня» выходит в свет без задержек, прямо с листа, в первом номере журнала «Пробуждение» за 1908 год. Читатель не только его принимает, стихотворение украшает номер. Более того, оно оживает, звучит как песня. И вскоре «Новогоднюю песню» начинают петь всюду. И в светских салонах под гитару, и в мещанских домах, и в кабаках и трактирах на рабочих окраинах. Мелодию на эти слова пишут самые разные музыканты. Порой самодеятельные. Но та, которая, пройдя сквозь столетие, дошла до нас, которую и нынче поют современники, принадлежит известному композитору начала XX века П. Владимирову.
С тех пор «Новогодняя песня» в России стала так популярна (из десятилетия в десятилетие её поют и солисты, и хоры с оркестрами), что постепенно превратилась в народную. А начальные слова «над конями да над быстрыми месяц птицею летит…» были с годами изменены. И звучат теперь так: «Над полями да над чистыми». Эта строка стала даже названием. К тому же вместо шести куплетов осталось только три. Порой даже профессиональные музыканты не знают имени автора. Да и издатели нот порой забывают указать то имя композитора, то имя поэта. А то и обоих сразу. Даже в концертах объявляют со сцены: «Русская народная песня». Что ж, такова судьба многих самых любимых народом, бессмертных песен. И это – доля завидная.
Ну а какова же дальнейшая судьба поэта? Александр Степанович Рославлев благополучно дожил до революции 1917 года, которую называли тогда переворотом. Действительно, перевернулось в России всё. Жизнь. Судьбы. Эпоха. Однако воплотилась, осуществилась-таки его мечта – ненавистное ему самодержавие пало. Даже царскую семью в восемнадцатом расстреляли. Казалось бы, «святое» дело «освобождения» народа свершилось. Ликуй. Рославлев стал даже «красным» участником Гражданской войны. С Красной армией подался на юг. Испытал всяческие жизненные коллизии. Но, как известно, революция пожирает своих детей. И долгожданного счастья: равенства, братства, гармонии – что-то вокруг не наступало. Чтобы окончательно не разочароваться, он с жадной энергией хватался за разные дела. Стал редактировать пролетарскую газету со странным названием «Красное Черноморье». Затем в Новороссийске вместе с молодым режиссёром Мейерхольдом азартно принялся создавать Театр политической сатиры. Всё надеялся увлечься, не потерять мечту. Стал по-революционному аскетичен, строго одет. Забывал о себе – о сне, о еде. Да и наступивший голод сему сопутствовал. Но, несмотря на все усилия, душа Александра Степановича почему-то всё больше печалилась, всё увядала. Лирические стихи не писались вообще, словно бы Муза, обидевшись, отвернулась от него навсегда. И до «расцвета коммунистического завтра» романтик Рославлев так и не дожил.
В ноябре 1920 года его, человека такого большого, красивого, сильного, свалила какая-то ничтожная тифозная вошь. Заразный, мучительный тиф свирепствовал тогда в голодной, разорённой до нищеты стране. А на юге России, как в наказание, эпидемия косила буквально всех. Лошади и полуторки не успевали вывозить с улиц трупы. И 37-летнему поэту уже не могли помочь ни врачи, ни его лёгкий, некогда заводной нрав, ни его оптимизм, который совсем иссяк. Он умирал от сыпняка, сыпного тифа, в горячке, то теряя сознание, то приходя в себя. И лишь его белокрылый Ангел-хранитель, о котором поэт писал ещё в юности, теперь распростёр крыла и в ожидании беззвучно реял над ним. Сочувственно и с любовью подавал сверху руку. И поэт, уже уходя навсегда, не мог и представить, что из всего написанного им в жизни дойдёт до потомков лишь одна немудрёная, но бессмертная, ясная песня, которую он, Саша Рославлев, написал когда-то в новогоднюю ночь:
Ляг, дороженька удалая,
Через весь-то белый свет.
Ты завейся, вьюга шалая,
Замети за нами след.