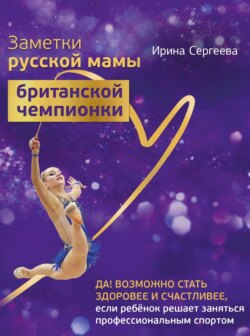Читать книгу Заметки русской мамы британской чемпионки - Ирина Сергеева - Страница 2
ЧАСТЬ 1. Художественная гимнастика в России
Глава 1. Как мы попали в мир гимнастики
ОглавлениеКак вы яхту назовете, так она и поплывет.
Капитан Врунгель
Итак, о Стефани.
В документах она записана как Стефани Эн Шерлок. Имя я выбрала далеко не сразу (нравилась присказка о яхте, которая плывет согласно названию). Много думала до рождения дочери о красивом звучном сочетании имени с фамилией Шерлок, доставшейся ей от биологического отца.
Из русских имен мне очень нравилось Лада, как у славянской богини, – красивое, сильное и нежное. Если бы у девочки была русская фамилия, например моя, то, возможно, именно это имя я бы и выбрала.
После тщательных и долгих переборов ярких и подходящих к фамилии имен остановилась на Стефани. В то время так звали принцессу Монако, хотя имя ее матери мне нравилось больше, но с фамилией Шерлок имя Грейс не сочеталось. А «Стефани Шерлок» я уже представляла на афишах… Каких? Театральных, наверное. Тогда даже подумать не могла, что по этому имени мою дочь станут вызывать на международную спортивную арену. И все будут видеть ее имя бегущей строкой во время выступлений.
В то время я работала врачом УЗИ, поэтому почти наверняка знала дату рождения и пол ребенка. Проверила по православному календарю, чье имя в святцах прославляют в первых числах сентября, и увидела, что 9-е число – день рождения Анны, матери Иисуса – Марии. Поэтому второе имя Анна, или Энн, определилось само. К тому же в имени Стефани внутри есть «Ани».
Тогда, в 1996 году, в России это была первая Стефани. Вскоре у певца Дмитрия Маликова родилась дочь, и назвали ее Стефания. Очень быстро это имя стало популярным в России, особенно в Москве.
В садике и начальной школе все знали и называли мою дочь Анной Шерлок. А всё – с легкой руки моего папы, который приехал помогать мне с дочкой. Когда ей исполнилось полгода, я вернулась в поликлинику, где работала до ее появления на свет врачом УЗИ. На прогулке в парке наш дедушка кому-то ответил, что она Анечка, да так и стал ее называть. «Анечка так Анечка», – подумала я. Это ведь тоже ее имя, и оно ей тоже подходит.
Даже на первых соревнованиях в спортивной школе в Москве, в десять лет, дочку тоже называли Анной Шерлок. Правда, иногда в фамилии почему-то ставили ударение на второй слог, и это было смешно.
В одиннадцать лет дочка перешла в среднюю школу, где уже по всем документам значилась как Стефани и представлялась только так. Когда я вдруг забывалась и называла ее по-старому, она говорила: «Ну какая я тебе Анюта?» К тому времени она уже была зарегистрирована в Ассоциации британской гимнастики именно как Стефани Шерлок. И, конечно, полет фантазии, связанный с этим фактом, у каждой из нас был свой. Но это отдельная история. А пока о том, как спорт, а именно художественная гимнастика, вошел в нашу жизнь.
В Советском Союзе фигурное катание для многих было одним из любимых видов спорта. А историю советской фигуристки Ирины Родниной, трехкратной олимпийской чемпионки, знают почти все. В детстве она была очень слабенькой, часто болела, и родители отдали ее в спорт, чтобы укрепить здоровье.
У нас более или менее схожая история. Аппетит у Стефани всегда был не очень. Если вдруг мне удавалось отвлечь ее, например мультиками, и скормить ей больше обычного, то ее обязательно тошнило и на этом не заканчивалось. В два года на диспансерном осмотре ей поставили диагноз «отставание по росту и весу». Педиатр успокаивала тем, что биометрические таблицы в России адаптированы под современных, крупных, детей и что моя дочь абсолютно нормальная.
Я стала брать шестилетнюю дочь с собой в фитнес-клуб World Class. Однажды мы попали на тестирование к спортивному врачу. Плачевные результаты у обеих: крайне низкая выносливость и маленький объем легких. Чтобы выправить ситуацию, я начала с йоги, плюс танцы. Девочку посоветовали отдать на плавание или в гимнастику. В нашем клубе как раз была художественная гимнастика. С этого все и началось.
Анечке семь. Она два раза в неделю занимается в малюсеньком зале в свое удовольствие. Праздник в клубе – и ее первое выступление с мячом под музыку из фильма «Профессионал»[6]: натянутые стопы, сияющие глаза, четкость попадания в музыку и радость движения.
Я снимала ее выступление, и меня переполняли гордость и умиление. Помню и слезы счастья. Катюша Сарычева, наш тренер в фитнес-клубе, периодически заводила беседы о спортивной школе, говоря о выдающихся способностях девочки и сожалея, что уже не может дать ей большего. Я смутно представляла, о чем идет речь.
Еще до начала занятий в секции, Стефани вдруг, ни с того ни с сего, сидя на диванчике в нашей квартире, заявила, что победит на Олимпийских играх. При этом никаких предпосылок не было, никаким видом спорта она не занималась, и тогда я только улыбнулась. А с восьми лет она упорно начала говорить о художественной гимнастике. Два года я надеялась, что она забудет об этом, пугала ее всевозможными «страшилками», рассказывая о жестокостях в мире профессионального спорта, гимнастики и балета… Не тут-то было!
Анечке девять. Она прекрасно учится в начальной и музыкальной школах, ходит на занятия танцами и гимнастикой в фитнес-клуб. Я работаю целыми днями в частном диализном центре – карьера состоялась. Все вошло в размеренный режим.
Мы ходим на концерты и в театры, ездим на экскурсии, летаем на побережья и в горы на каникулы. Она катается на велике и роликах летом и на коньках и лыжах зимой. У меня свои планы насчет будущего дочери. Моей мечтой всегда было ее образование в Великобритании. Причем я не исключала, что она поедет туда уже лет в двенадцать-тринадцать, чтобы хорошо подготовиться к университету и выбрать направление в жизни.
С детства я обожала балет. Поэтому свозила дочь на частный просмотр к преподавателю хореографического училища. Меня уверили, что выдающихся способностей, кроме правильных стоп «горкой» и длинной шейки, у девочки нет. Да и желанием стать балериной она не горела. Можно было, конечно, повозить ее в подготовительный класс, но в нашем случае при таком раскладе я не видела смысла таскаться по пробкам. И насчет хореографического училища и балетного будущего дочери успокоилась окончательно.
Когда дочкины разговоры о гимнастике стали сопровождаться слезами, я все же начала искать подходящее место занятий. Как вариант рассматривала возможность попасть в школу олимпийского резерва (академий у Ирины Винер[7] тогда еще не было). Мне дали телефон завуча школы олимпийского резерва, Елены Львовны. В 2006-м, сразу после Нового года, я ей позвонила и объявила о желании моей дочери стать великой спортсменкой. Елена Львовна сразу спросила, какого года рождения моя дочь. Услышав о 96-м, просто рассмеялась и посоветовала идти в спортивную школу по месту жительства: к десяти годам в этом виде спорта в России дети владеют всеми гимнастическими предметами и, как правило, уже имеют І взрослый разряд.
Мы жили тогда около Спортивной школы № 35 в Новых Черемушках. Как-то весной после работы я туда заехала и узнала, что можно попасть к тренеру Наталье Михайловне Грачевой. Красивая, изящная, словно куколка, спокойная и доброжелательная, она сразу мне понравилась: совсем не вписывалась в мои представления о жестких и даже жестоких тренерах, о которых я была наслышана.
Посмотрев Анечку в первый раз, тренер тоже не увидела никаких выдающихся способностей. Не могу сказать, что это меня опечалило. Я действительно не представляла, во что ввязываюсь. Наталья Михайловна спросила, чего хочу от тренировок. Я искренне ответила: «Честно – ничего. Лишь бы это не навредило ее здоровью». Тем не менее рассказала тренеру о желании девочки стать чемпионкой. С мая 2006 года я стала три раза в неделю привозить дочь на двухчасовые тренировки. Через две недели занятий Наталья Михайловна захотела поговорить со мной еще раз (наверное, все-таки что-то такое разглядела в девочке). Она предложила поехать с ее группой на море в июне, но у нас уже была путевка в «Артек», купленная еще весной, до «появления» гимнастики. Тогда тренер рассказала о сборах в августе. С них-то и началось серьезное погружение в спортивный мир.
* * *
Да, моя девочка всегда была для меня особенной. Но понимаю, что «мамашкой» я была типично российской – требовательной и скуповатой на похвалу. До «еврейской» мамы мне, конечно же, было далеко. И слава Богу. Очень показательным для меня стал фильм по автобиографическому роману Ромена Гари «Обещание на рассвете»[8]. Посмотрев его недавно, я еще раз убедилась, что еврейская мама – это что-то уникальное, это как печать, как диагноз, особенно если речь о сыне. В фильме мамаша с самого его детства внушала ему и всем окружающим, в кого ее чадо превратится в будущем, программируя все последующие действия мальчика. Жестко, без вариантов, она не оставляла сначала ребенку, потом уже подростку и молодому человеку ни малейшей возможности хоть как-то управлять своей жизнью.
Эта удивительная история никого не оставит равнодушным. Уверена, кого-то просто возмутит поведение этой женщины, особенно после чтения титров в конце и известия о суициде главного героя в реальной жизни. А ведь он воплотил в жизнь все мечты матери, став генералом Французской армии, писателем и вполне успешным человеком. Просто мечты эти были не его.
А у Стефани с двух лет был еврейский папа (мой муж) с лайт-вариантом программирования ее будущего. Но вера в девочку и любовь были далеко не лайт, а самые настоящие, наисильнейшие, искренние. Это было спасением для нас обеих, особенно когда началась гонка в гимнастике: сборы, национальные соревнования, чемпионаты, универсиады…
Когда у меня появилась дочь, я, как уже говорила, была врачом УЗИ и после расставания с отцом Стефани (ей исполнилось тогда полгода) продолжила работать в клинике. Но стала искать более интересное и высокооплачиваемое место. Девять месяцев поисков привели к успеху: я устроилась в компанию, которая строила частные диализные центры в России. Осенью 1999 года, появился частный диализный центр – первый в Москве и самый крупный в Европе. Будущий отчим моей дочери, а на деле – самый лучший папа в мире, был его проджект-менеджером, а я – зам генерального директора. Мы много времени проводили втроем, выходные и праздники – тоже вместе. Моя трехлетняя дочь «решила», что именно он – ее папа, и объявила об этом в детском саду. Мы «подстроились» и стали жить вместе.
Это был действительно идеальный папа для моего ребенка: не сильно вмешивался в воспитание, ни от чего нас не отговаривал и всячески ей во всем помогал. Когда Стефани стала ходить на гимнастику в фитнес-клубе, иначе как Чемпионкой он ее не называл:
– Доброе утро, Чемпионка!
– Приятного аппетита, Чемпионка!
– Как дела, Чемпионка?..
Если сто раз на дню тебя называют чемпионкой, какие варианты?
Дочь вдохновляла его на занятия спортом; он же был ей примером в чтении и спасателем от моих претензий и придирок (в то время я ведь искренне верила, что знаю все намного лучше и помогаю ей «совершенствоваться»; происходило это жестко, хотя все же, надеюсь, не жестоко). Со стороны отца это была не только вера и всепоглощающая любовь с самого первого дня, но и гордость, восхищение, открытая поддержка во всем и всегда. Финансовая, конечно, тоже. Те, кто в теме детского спорта, особенно художественной гимнастики, знают, о чем я: купальники, предметы, персональные тренировки, соревнования, сборы, потом поездки в другие страны… И так – долгих двенадцать лет.
Биологическому папе Стефани, англичанину, я тоже искренне признательна и благодарна. Он подарил мне удивительную, самую лучшую в мире дочь. Благодарна и за то, что, когда Стефани исполнилось полгода, ушел, расписавшись в своей материальной неготовности нас поддерживать (хотя в то время я очень переживала по этому поводу, поскольку была уверена, что если уж не мужем, то отцом Эндрю был бы замечательным). Когда дочке исполнилось восемь, в Великобритании ввели закон, позволяющий детям, имеющим хотя бы одного из родителей – гражданина этой страны, получить британский паспорт. Конечно, мы этим воспользовались, и Стефани в девять лет стала полноправной гражданкой Великобритании, что очень пригодилось, когда в нашей семье «поселилась» гимнастика.
Огромную роль в воспитании Стефани сыграл и дедушка, мой папа. Ему было уже шестьдесят четыре, когда появилась его первая внучка. Почти с первых же дней он стал мне помогать. Моя мама умерла очень давно, мне тогда было всего семнадцать. Когда Стефани исполнилось шесть месяцев и я вышла на работу, мой папа переехал к нам. Его помощь в самый трудный для меня период переоценить невозможно. Любил он нас безмерно. Стефани осознанно считает его вторым, а может, даже первым отцом. В последние годы его жизни мы с ней, похоже, слились в единый для него образ… Его любимое выражение: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он часто мне его повторял. Думаю, Стефани с первых дней жизни тоже слышала эту пословицу. Так же, как меня, он катал ее сначала в коляске, потом на санках, учил кататься на коньках и на велосипеде, показывал буквы, а как только она начала сама ходить – считал вслух ступеньки в подъезде.
Дочке разрешалось все. Я сейчас говорю о ее желании постоянно кувыркаться и носиться, куда угодно залезать и все время совершать опасные, с моей точки зрения, действия. Это был мой осознанный выбор – не запрещать ей то, что таит угрозу падений и травм.
В моем раннем детстве родители, оберегая меня от потенциальных опасностей, рассказывали, как жесток и ужасен мир вокруг. Я им верила, но когда стала читать не только сказки, то открыла прекрасные стороны мира. На мои попытки возражать слышала в ответ, что в книгах одно, а в жизни совсем другое.
Но с внучкой мой папа понял и поддержал мою установку на максимальное позволение и даже поощрение физической активности почти с рождения. При этом страх потерять ее у отца был настолько сильным, что он постоянно пытался предостеречь меня и уберечь любимую внученьку от возможных похищений. Хоть я и останавливала его иногда, но сама в Москве не отпускала ее одну никуда и никогда лет до восемнадцати, отмахиваясь от подруг-мамаш из гимнастики, говоривших, что слишком над ней трясусь. Тем не менее уже лет с двенадцати-тринадцати она часто одна летала в Англию и другие страны, жила там в чужих семьях, иногда даже ночевала в отелях около аэропортов.
Теперь знаю наверняка: все, что ни делается, – к лучшему, даже если сразу так не кажется.
Эрнест Хемингуэй сказал: «Раз уж начал – побеждай». Полная аналогия с любимой пословицей моего папы: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж».
6
«Профессионал» 1981 г., реж. Лортнер, музыка Эннио Морриконе
7
Международная Академия спорта Ирины Винер будет создана ею в 2009 году.
8
«Обещание на рассвете» – экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари, 2017 г., реж. Эрик Барбье